Роман-лексикон в 100000 слов
---------------------------------------------------------------
© Перевод с сербскохорватского Л.Савельевой
© "Иностранная литература", 3, 1991.
(Журнальный вариант)
---------------------------------------------------------------

История создания "Хазарского словаря"
Событие, описанное в этом словаре, произошло, видимо, в
VIII или в IX веке нашей эры (возможно, было и несколько
подобных событий) и в специальной литературе оно обычно
называется "хазарской полемикой". Хазары, независимое и сильное
племя, воинственные кочевники, в неизвестный момент истории
появились с Востока, гонимые жаркой тишиной, и в период с VII
до Х века населяли сушу между двумя морями - Каспийским и
Черным.
Хазары заявили о себе в истории, начав воевать с арабами и
заключив союз с византийским императором Гераклием в 627 году,
однако их происхождение остается загадкой, исчезли и все следы,
которые привели бы нас к тому, под каким именем и среди какого
народа искать хазар сегодня. После них осталось одно кладбище
на берегу Дуная, о котором точно неизвестно, хазарское ли оно,
и еще куча ключей, у которых вместо головки были припаяны
золотые или серебряные монетки с изображением какого-то
трехрогого знака; как считает Даубманус, их отливали хазары. С
исторической сцены хазары исчезли вместе со своим государством
после того, как разыгрались события, о которых здесь главным
образом и пойдет речь, а именно - после того, как они
обратились из своей первоначальной и ныне нам неизвестной веры
в одну из известных и тогда и теперь религий - иудейскую,
исламскую или христианскую. Вскоре за их обращением в эту веру,
как считается, последовал и распад хазарского царства. Один из
русских полководцев Х века, князь Святослав, не сходя с коня
съел хазарское царство, словно яблоко. Хазарскую столицу в
устье Волги русские разрушили в 943 году за восемь ночей, а с
965 до 970 года уничтожили и хазарское государство. Очевидцы
отмечали, что тени домов хазарской столицы еще долго не
разрушались, хотя сами дома давно были уничтожены. Они стояли,
сопротивляясь ветру и водам Волги. Одна из русских хроник XII
века свидетельствует о том, что Олег уже в 1083 году назывался
архонтом Хазарии, но в это время, то есть в XII веке,
территорию бывшего государства хазар уже занимал другой народ -
кумы. Материальные следы хазарской культуры весьма скудны.
Никакие тексты, общественного или личного характера, не
обнаружены, нет никаких следов хазарских книг, о которых
упоминает Халеви, ничего неизвестно об их языке, хотя Кирилл
отмечает, что они исповедовали свою веру на хазарском.
Единственное общественное здание, обнаруженное при раскопках в
Суваре, на некогда принадлежавшей хазарам территории, судя по
всему не хазарское, а болгарское. Ничего особенного не найдено
и во время раскопок на месте города Саркела, нет даже следов
стоявшей там когда-то крепости, которую, как нам известно,
построили для хазар византийцы. После уничтожения их
государства хазары почти не упоминаются. В Х веке вождь одного
из венгерских племен предложил им поселиться на своих землях. В
1117 году какие-то хазары появлялись в Киеве у Владимира
Мономаха. В Пресбурге в 1309 году католикам было запрещено
вступать в брак с хазарами, и папа подтвердил этот запрет в
1346 году. Это почти все...
__________________________
* Обзор литературы о хазарах опубликован в Нью-Йорке (The
Khazars, a bibliography, 1939); о истории хазар существуют две
монографии русского автора М И. Артамонова (Ленинград, 1936 и
1962), а историю хазар-евреев опубликовал в Принстоне в 1954
году Д. М. Данлоп.
Упомянутый акт обращения в новую веру, который оказался
роковым для хазар, произошел следующим образом. Хазарский
правитель - каган, - как отмечают древние хроники, увидел
однажды сон, для толкования которого он потребовал пригласить
трех философов из разных стран. Дело было тем более важным для
хазарского государства, что каган решил вместе со своим народом
перейти в веру того из мудрецов, чье толкование сна будет самым
убедительным. Некоторые источники утверждают, что в тот день,
когда каган принял это решение, у него умерли волосы на голове,
и он понял, что это значит, однако остановиться уже не мог. Так
в летней резиденции кагана встретились исламский, еврейский и
христианский миссионеры - дервиш, раввин и монах... Точки
зрения трех мудрецов, их споры, основанные на позициях трех
различных вер, их личности и исход "хазарской полемики" вызвали
большой интерес, многочисленные противоречивые суждения об этом
событии и его последствиях, о победителях и побежденных в
полемике. На протяжении веков всему этому были посвящены
бесчисленные дискуссии в еврейском, христианском и исламском
мире, и продолжаются они по сию пору, хотя хазар уже давно нет.
В XVII веке интерес к хазарам неожиданно вспыхнул с новой силой
и необъятный материал о хазарах, накопившийся к этому моменту,
был систематизирован и опубликован в 1691 году в Пруссии...
Издатель одного польского словаря Иоанес Даубманус, или
какой-то его наследник под тем же именем, в вышеупомянутом 1691
году опубликовал собрание сведений о хазарском вопросе, придав
ему единственно возможную форму, способную вместить все пестрое
наследие, которое те, кто носит перо за ухом и мажет рот
чернилами, накапливали и теряли на протяжении веков. Оно было
напечатано в виде словаря о хазарах под заголовком "Lexicon
Cosri"...
Как пользоваться словарем
Несмотря на все перипетии, эта книга сохранила некоторые
достоинства первоначального издания - издания Даубмануса. Так
же как и то издание, она может читаться самыми разными
способами. Это открытая книга, а когда ее закроешь, можно
продолжать писать ее; так же как она имеет своих лексикографов
в прошлом и в настоящем, и в будущем могут появиться те, кто
будет ее переписывать, продолжать и дополнять... Все имена и
понятия, которые в ней отмечены знаками креста, полумесяца или
звезды Давида, нужно искать в соответствующем разделе словаря,
если кто-то захочет найти более подробное объяснение. То есть
слова под знаком:
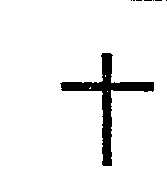 * - нужно искать в Красной книге словаря (христианские
источники о хазарском вопросе),
* - нужно искать в Красной книге словаря (христианские
источники о хазарском вопросе),
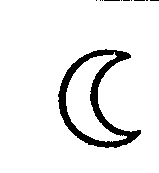 ** - нужно искать в Зеленой книге словаря (исламские
источники о хазарском вопросе),
** - нужно искать в Зеленой книге словаря (исламские
источники о хазарском вопросе),
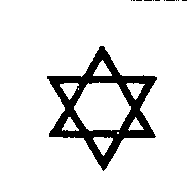 *** - нужно искать в Желтой книге словаря (древнееврейские
источники о хазарском вопросе),
*** - нужно искать в Желтой книге словаря (древнееврейские
источники о хазарском вопросе),
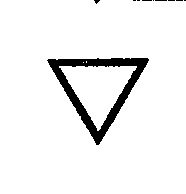 **** - статьи, помеченные этим знаком, можно найти во всех
трех книгах...
__________________________
По техническим причинам в нашем журнале эти обозначения
соответственно заменяются на *, **, ***, ****. (Прим. ред.)
Иначе говоря, читатель может пользоваться книгой так, как
ему покажется удобным. Одни, как в любом словаре, будут искать
имя или слово, которое интересует их в данный момент, другие
могут считать этот словарь книгой, которую следует прочесть
целиком, от начала до конца, в один присест, чтобы получить
более полное представление о хазарском вопросе и связанных с
ним людях, вещах, событиях. Книгу можно листать слева направо и
справа налево, так в основном и листали словарь, опубликованный
в Пруссии (еврейские и арабские источники). Три книги этого
словаря - Желтую, Красную и Зеленую - можно читать в том
порядке, какой придет на ум читателю, например, начав с той
страницы, на которой словарь откроется... Именно поэтому в
издании XVII века каждая книга была переплетена отдельно, что в
данном случае невозможно было сделать по техническим причинам.
"Хазарский словарь" можно читать и по диагонали, чтобы получить
срез каждого из трех источников - исламского, христианского и
древнееврейского... Можно при чтении соединить в одно целое
статьи из трех различных книг словаря, где говорится об
участниках хазарской полемики, о ее хронистах, об
исследователях хазарского вопроса в XVII веке (Коэн, Масуди,
Бранкович) и в XX веке (Сук, Муавия, Шульц). Разумеется, не
следует обходить вниманием и персонажи, пришедшие из трех
преисподен - исламской, еврейской и христианской (Ефросиния
Лукаревич, Севаст, Акшани). Они проделали самый длинный путь,
чтобы добраться до этой книги.
Однако обладателя словаря не должны смущать эти
инструкции. Он может со спокойной душой пренебречь всеми этими
советами и читать так, как ест: пользоваться правым глазом как
вилкой, левым как ножом, а кости бросать за спину. И хватит.
Правда, может случиться, что читатель заблудится и потеряется
среди слов этой книги, как случилось с Масуди, одним из авторов
словаря, который заплутал в чужих снах и уже не нашел дороги
назад. В таком случае читателю не остается ничего другого, как
пуститься с середины страницы в любую сторону, прокладывая свою
собственную тропинку. Тогда он будет продвигаться сквозь книгу,
как сквозь лес, от знака до знака, ориентируясь по звездам,
месяцу и крестам. В другой раз он будет читать ее, как птица
трясогузка, которая летает только по четвергам, или же
перетасовывать и перекладывать ее страницы бесчисленными
способами, как кубик Рубика. Никакая хронология здесь не нужна
и не должна соблюдаться. Каждый читатель сам сложит свою книгу
в одно целое, как в игре в домино или карты, и получит от этого
словаря, как от зеркала, столько, сколько в него вложит, потому
что от истины - как пишется на одной из следующих страниц -
нельзя получить больше, чем вы в нее вложите. Кроме того, книгу
эту вовсе не обязательно читать целиком, можно прочесть лишь
половину или какую-то часть и на этом остановиться, что,
кстати, всегда и бывает со словарями. Чем больше ищешь, тем
больше получаешь; так и здесь счастливому исследователю
достанутся все связи между именами этого словаря. Остальное для
остальных.
**** - статьи, помеченные этим знаком, можно найти во всех
трех книгах...
__________________________
По техническим причинам в нашем журнале эти обозначения
соответственно заменяются на *, **, ***, ****. (Прим. ред.)
Иначе говоря, читатель может пользоваться книгой так, как
ему покажется удобным. Одни, как в любом словаре, будут искать
имя или слово, которое интересует их в данный момент, другие
могут считать этот словарь книгой, которую следует прочесть
целиком, от начала до конца, в один присест, чтобы получить
более полное представление о хазарском вопросе и связанных с
ним людях, вещах, событиях. Книгу можно листать слева направо и
справа налево, так в основном и листали словарь, опубликованный
в Пруссии (еврейские и арабские источники). Три книги этого
словаря - Желтую, Красную и Зеленую - можно читать в том
порядке, какой придет на ум читателю, например, начав с той
страницы, на которой словарь откроется... Именно поэтому в
издании XVII века каждая книга была переплетена отдельно, что в
данном случае невозможно было сделать по техническим причинам.
"Хазарский словарь" можно читать и по диагонали, чтобы получить
срез каждого из трех источников - исламского, христианского и
древнееврейского... Можно при чтении соединить в одно целое
статьи из трех различных книг словаря, где говорится об
участниках хазарской полемики, о ее хронистах, об
исследователях хазарского вопроса в XVII веке (Коэн, Масуди,
Бранкович) и в XX веке (Сук, Муавия, Шульц). Разумеется, не
следует обходить вниманием и персонажи, пришедшие из трех
преисподен - исламской, еврейской и христианской (Ефросиния
Лукаревич, Севаст, Акшани). Они проделали самый длинный путь,
чтобы добраться до этой книги.
Однако обладателя словаря не должны смущать эти
инструкции. Он может со спокойной душой пренебречь всеми этими
советами и читать так, как ест: пользоваться правым глазом как
вилкой, левым как ножом, а кости бросать за спину. И хватит.
Правда, может случиться, что читатель заблудится и потеряется
среди слов этой книги, как случилось с Масуди, одним из авторов
словаря, который заплутал в чужих снах и уже не нашел дороги
назад. В таком случае читателю не остается ничего другого, как
пуститься с середины страницы в любую сторону, прокладывая свою
собственную тропинку. Тогда он будет продвигаться сквозь книгу,
как сквозь лес, от знака до знака, ориентируясь по звездам,
месяцу и крестам. В другой раз он будет читать ее, как птица
трясогузка, которая летает только по четвергам, или же
перетасовывать и перекладывать ее страницы бесчисленными
способами, как кубик Рубика. Никакая хронология здесь не нужна
и не должна соблюдаться. Каждый читатель сам сложит свою книгу
в одно целое, как в игре в домино или карты, и получит от этого
словаря, как от зеркала, столько, сколько в него вложит, потому
что от истины - как пишется на одной из следующих страниц -
нельзя получить больше, чем вы в нее вложите. Кроме того, книгу
эту вовсе не обязательно читать целиком, можно прочесть лишь
половину или какую-то часть и на этом остановиться, что,
кстати, всегда и бывает со словарями. Чем больше ищешь, тем
больше получаешь; так и здесь счастливому исследователю
достанутся все связи между именами этого словаря. Остальное для
остальных.
Христианские источники о хазарском вопросе
АТЕХ **** - хазарская принцесса, ее участие в полемике о
крещении хазар было решающим. Ее имя истолковывается как
название четырех состояний духа у хазар. По ночам на каждом
веке она носила по букве, написанной так же, как пишут буквы на
веках коней перед состязанием. Буквы эти были буквами
запрещенной хазарской азбуки, письмена которой убивали всякого,
кто их прочтет. Буквы писали слепцы, а по утрам, перед
умыванием принцессы, служанки прислуживали ей зажмурившись. Так
была она защищена от врагов во время сна, когда человек, по
поверьям хазар, наиболее уязвим. Атех была прекрасна и набожна,
и буквы были ей к лицу, а на столе ее всегда стояла соль семи
сортов, и она, прежде чем взять кусок рыбы, обмакивала пальцы
каждый раз в другую соль. Так она молилась. Говорят, что так же
как и солей, было у нее семь лиц. Согласно одному из преданий,
каждое утро она брала зеркало и садилась рисовать, и всегда
новый раб или рабыня позировали ей. Кроме того, каждое утро она
превращала свое лицо в новое, ранее невиданное. Другие считают,
что Атех вообще не была красивой, однако она научилась перед
зеркалом придавать своему лицу такое выражение и так владеть
его чертами, что создавалось впечатление красоты. Эта
искусственная красота требовала от нее стольких сил и
напряжения, что, как только принцесса оставалась одна и
расслаблялась, красота ее рассыпалась так же, как ее соль. Во
всяком случае ромейский (византийский) император назвал в IX
веке "хазарским лицом" известного философа и патриарха Фотия,
что могло указывать либо на родство патриарха с хазарами, либо
на лицемерие.
По Даубманусу**** же ни та, ни другая версия не верны. Под
хазарским лицом подразумевалась способность и особенность всех
хазар, и принцессы Атех в том числе, каждый день пробуждаться
как бы кем-то другим, с совершенно новым и неизвестным лицом,
так что даже ближайшие родственники с трудом распознавали друг
друга. Путешественники отмечали, однако, что лица хазар
совершенно одинаковы, что они никогда не меняются и это
приводит к разным осложнениям и недоразумениям. Как бы то ни
было, суть дела от этого не меняется, и хазарское лицо означает
лицо, которое трудно запомнить. Этим можно объяснить не только
легенду, по которой у принцессы Атех были разные лица для
каждого из участников хазарской полемики **** при дворе кагана,
но и сведения о том, что существовали три принцессы Атех - одна
для исламского, вторая для христианского, а третья для
еврейского миссионера и толкователя снов. Остается, однако,
фактом, что ее присутствие при хазарском дворе не отмечено в
христианском источнике того времени, написанном на греческом и
переведенном на славянский язык ("Житие Константина Солунского"
- св. Кирилла*), при этом, правда, из "Хазарского словаря"
известно, что одно время среди греческих и славянских монахов
существовало нечто похожее на культ принцессы Атех. Культ этот
возник в связи с убеждением, что Атех победила в полемике
еврейского теолога и приняла христианство вместе с каганом
****, о котором опять-таки нельзя сказать, был ли он ей отцом,
супругом или братом...
О принцессе Атех известно, что она никогда не смогла
умереть. Все же существует запись, выгравированная на ноже,
украшенном мелкими дырочками, где говорится о ее смерти. Это
единственное и не вполне достоверное предание приводит
Даубманус****, однако не как рассказ о том, что принцесса Атех
действительно умерла, а как рассуждение о том, могла ли она
вообще умереть. Как от вина не седеют волосы, так и от этого
рассказа не будет вреда. Называется он:
БЫСТРОЕ И МЕДЛЕННОЕ ЗЕРКАЛО.
Однажды весной принцесса Атех сказала: "Я привыкла к своим
мыслям, как к своим платьям. В талии они всегда одной и той же
ширины, и вижу я их повсюду, даже на перекрестках. И что хуже
всего - из-за них уже и перекрестков не видно".
Чтобы развлечь принцессу, слуги вскоре принесли ей два
зеркала. Они почти не отличались от других хазарских зеркал.
Оба были сделаны из отполированной глыбы соли, но одно из них
было быстрым, а другое медленным. Что бы ни показывало быстрое,
отражая мир как бы взятым в долг у будущего, медленное отдавало
долг первого, потому что оно опаздывало ровно настолько,
насколько первое уходило вперед. Когда зеркала поставили перед
принцессой Атех, она была еще в постели, и с ее век еще не были
смыты написанные на них буквы. В зеркале она увидела себя с
закрытыми глазами и тотчас умерла. Принцесса исчезла в два
мгновения ока, тогда, когда впервые прочла написанные на своих
веках смертоносные буквы, потому что зеркала отразили, как она
моргнула и до и после своей смерти. Она умерла, убитая
одновременно буквами из прошлого и будущего...
БРАНКОВИЧ АВРАМ (1651-1689) - один из тех, кто писал эту
книгу. Дипломат, служивший в Адрианополе и при Порте в
Царьграде, военачальник в австрийско-турецких войнах,
энциклопедист и эрудит. Портрет Браиковича какое-то
беспокойство, которое, подобно камню, брошенному в его душу,
падало через нее на протяжении дней, и падение это прекращалось
только ночью, когда вместе с камнем падала и душа. Позже этот
сон полностью овладел его жизнью, и во сне он становился в два
раза моложе, чем наяву. Из его снов навсегда исчезли сначала
птицы, затем его братья, потом отец и мать, простившись с ним
перед исчезновением. Потом бесследно исчезли все люди и города
из его окружения и воспоминаний, и наконец из этого совершенно
чужого мира исчез и он сам, как будто бы ночью, во время сна,
он превратился в какого-то совсем другого человека, лицо
которого, мелькнувшее перед ним в зеркале, испугало его так же,
как если бы он увидел собственную мать или сестру, заросшую
бородой. У того, другого, были красные глаза и стеклянные
ногти, а один ус - седой.
В этих снах, прощаясь со всем окружавшим его, Бранкович
дольше всего видел свою покойную сестру, но и она в этих снах
каждый раз теряла что-то в своем облике, так хорошо знакомом
Бранковичу, а взамен получала какие-то новые черты, незнакомые
и чужие. Они достались ей от какой-то неизвестной особы,
которая дала ей прежде всего голос, потом цвет волос, зубы, так
что в конце концов оставались лишь руки, которые обнимали
Бранковича все более и более страстно. Все остальное уже не
было ею. И вот однажды ночью, которая была такой тонкой, что
два человека, один из которых стоял во вторнике, а второй в
среде, могли через нее пожать друг другу руки, она пришла к
нему преображенной совершенно, такой прекрасной, что от ее
красоты весь мир вокруг замер. Она обняла его руками, на каждой
из которых было по два больших пальца. Он едва не сбежал от нее
из своего сна, но потом сдался и сорвал, как персик с ветки,
одну из ее грудей. После этого он снимал с нее, как с дерева,
каждый свой день, а она дарила ему каждый раз новые плоды, все
слаще и слаще, и так он спал с ней дни напролет в разных снах,
как делают это другие люди со своими наложницами в нанятых на
ночь домах. Но в ее объятиях он никогда не мог определить,
какую из ее рук с двумя большими пальцами он чувствует на своем
теле, потому что разницы между ними не было. Эта любовь в
сновидениях, однако, заметно истощала его наяву, причем так
сильно, что он просыпался почти полностью выжатым из своих снов
в собственную постель. Тогда она пришла к нему и сказала:
- Кто с горечью в душе проклинает, тот будет услышан.
Может быть, мы еще встретимся в какой-нибудь другой жизни.
Бранкович никогда не узнал, говорила ли она это ему, киру
Авраму Бранковичу, или же его двойнику из сна с седым усом,
куросу, в которого Бранкович превращался, пока спал. Потому что
во сне он давно уже не чувствовал себя Аврамом Бранковичем. Он
чувствовал себя совсем другим, тем самым, у которого стеклянные
ногти. В своих снах он уже много лет не хромал, как наяву. По
вечерам казалось ему, что его будит чья-то усталость, так же
как с утра он ощущал сонливость от того, что кто-то где-то
чувствует себя выспавшимся, вполне пробудившимся и бодрым. Веки
его тяжелели всегда, когда где-то раскрывались веки кого-то
другого. Его и незнакомца соединяют друг с другом сообщающиеся
сосуды силы и крови, и эта сила переливается из одного в
другого так же, как переливают вино, чтобы оно не скисло. Чем
больше один из них ночью во время сна отдохнул и набрался сил,
тем больше те же самые силы покидали другого, оставляя место
усталости и сну. Самое страшное было - неожиданно заснуть
посреди улицы или в другом неподходящем месте, будто этот сон
не сон, а отклик на чье-то пробуждение в тот же момент...
Мне кажется, что и курос... и все остальное... имеет
непосредственное отношение к тому делу, которым господарь
Бранкович и мы, его слуги, занимаемся уж несколько лет. Речь
идет об одном глоссарии или же азбуке, которую я бы назвал
"Хазарским словарем". Над этим словарем он работает без устали
и преследует особые цели. В Царьград прибыли для Бранковича из
Зарандской жупании и из Вены восемь верблюдов, нагруженных
книгами, и все время прибывают новые и новые, так что он
отгородился от мира стеной словарей и старых рукописей. Я знаю
толк в красках, чернилах и буквах, влажными ночами я нюхом
распознаю каждую букву и, лежа в своем углу, читаю по запахам
целые страницы неразмотанных запечатанных свитков, которые
сложены где-нибудь на чердаке под самой крышей. Кир Аврам же
больше всего любит читать на холоде, в одной рубахе, дрожа всем
телом, и только то из прочитанного, что, несмотря на озноб,
овладевает его вниманием, он считает достойным запоминания, и
эти места в книге он отмечает. Каталог, который Бранкович
собрал при своей библиотеке, охватывает тысячи листов на
различные темы: от перечня вздохов и восклицаний в
старославянских молитвах до перечня солей и чаев и огромного
собрания волос, бород и усов самых различных цветов и фасонов
живых и мертвых людей всех рас, господарь наклеивает их на
стеклянные бутыли и держит у себя как своего рода музей
старинных причесок. Его собственные волосы в этой коллекции не
представлены, однако он приказал вышить ими на нагрудниках,
которые он всегда носит, свой герб с одноглазым орлом и
девизом: "Каждый господарь свою смерть любит".
Со своими книгами, коллекциями и картотекой Бранкович
работает каждую ночь, но главное внимание его приковано к
составлению (что он держит в строгой тайне) азбуки, вернее,
словаря о крещении хазар**** - давно исчезнувшего племени с
берегов Черного моря, которое имело обычай хоронить своих
покойников в лодках. Это должен быть некий перечень биографий
или сборник житий всех, кто несколько сот лет назад участвовал
в обращении хазар в христианскую веру, а также тех, после кого
остались какие-либо более поздние записи об этих событиях.
Доступ к "Хазарскому словарю" имеем только мы - два его писаря:
я и Теоктист Никольски. Такая предосторожность связана, видимо,
с тем, что Бранкович здесь, в частности, рассматривает и
различные ереси, не только христианские, но и еврейские и
магометанские... Бранкович располагает всеми доступными
сведениями о Кирилле* и Мефодии*, христианских святых и
миссионерах, которые участвовали в крещении хазар с греческой
стороны. Особую трудность для него, однако, составляет то, что
он не может внести в эту азбуку еврейского и арабского
участников обращения хазар, а они тоже причастны к этому
событию и к полемике, которая тогда велась при дворе хазарского
кагана ****. Об этом еврее и арабе он не только не смог узнать
ничего, кроме того, что они существовали, но их имена не
встречаются ни в одном из доступных ему греческих источников,
где говорится о хазарах. В поисках еврейских и арабских
свидетельств о крещении хазар его люди побивали в монастырях
Валахии и в подвалах Царьграда, и сам он прибыл сюда, в
Царьград, для того, чтобы здесь, откуда некогда в хазарскую
столицу для крещения хазар были посланы миссионеры Кирилл и
Мефодий, найти рукописи и людей, которые этим занимаются. Но
грязной водой колодца не промоешь, и он не находит ничего!
Бранкович не может поверить, что лишь он один интересуется
хазарами и что в прошлом этим не занимался никто вне круга тех
христианских миссионеров, которые оставили сообщения о хазарах
со времен святого Кирилла. Я уверен, утверждает он, что кто-то
из дервишей или еврейских раввинов, конечно же, знает
подробности о жизни еврейского или арабского участника
полемики, однако ему никак не удается найти такого человека в
Царьграде, а может, они не хотят говорить о том, что им
известно. Он предполагает, что наряду с христианскими
источниками существуют не менее полные арабские и еврейские
источники об этом народе и его обращении, но что-то мешает
людям, знающим это, встретиться и связать в одно целое свои
знания, которые только вместе могли бы дать ясную и полную
картину всего, что относится к этому вопросу.
- Не понимаю, - часто говорит он, - может быть, я все
время слишком рано останавливаю свои мысли и поэтому они
созревают во мне лишь до половины и высовываются только до
пояса...
Причину такого безмерного интереса кира Аврама к столь
малозначительному делу, по-моему, объяснить нетрудно. Господарь
Бранкович занимается хазарами из самых эгоистических
побуждений. Он надеется таким образом избавиться от сновидений,
в которые заточен. Курос из его сновидений тоже интересуется
хазарским вопросом, и кир Аврам знает это лучше нас. Для кира
Аврама единственный способ освободиться из рабства собственных
снов - это найти незнакомца, а найти его он может только через
хазарские документы, потому что это единственный след, который
ведет его к цели. Мне кажется, что так же думает и тот, другой.
Их встреча, таким образом, неизбежна, как встреча тюремщика и
заключенного. Поэтому и неудивительно, что кир Аврам в
последнее время так усердно упражняется со своим учителем на
саблях..."
Этими словами завершается донесение Никона Севаста об
Авраме Бранковиче. О последних днях своего господина Севаст,
однако, не мог донести никому, потому что и господарь, и слуга
были убиты однажды в среду, облаченную в туманы и заплутавшуюся
гдето в Валахии. Запись об этом событии оставил другой слуга
Бранковича - уже упоминавшийся искусный мастер сабельного боя
Аверкие Скила. Эта запись выглядит так, как будто Скила писал
ее концом своей сабли, обмакивая ее в чернильницу, стоящую на
земле, а бумагу придерживал сапогом. "В последний царьградский
вечер, перед отъездом, - записал Аверкие Скила,- папас Аврам
собрал нас в своем большом зале с видом на три моря. Дул ветер:
зеленый с Черного моря, голубой, прозрачный-с Эгейского и сухой
и горький - с Ионического. Когда мы вошли, наш господарь стоял
рядом с верблюжьим седлом и читал. Собирался дождь,
анатолийские мухи, как всегда перед дождем, кусались, и он
отгонял их, защищаясь хлыстом и безошибочно попадая самым
кончиком в место укуса на своей спине...
Мы уселись - все четверо, кого он позвал: я, два его
писаря и слуга Масуди, который уже сложил все необходимые для
путешествия вещи в зеленый мешок. Взяли по ложечке черешневого
варенья с острым перцем и выпили по стакану воды из колодца,
который находился здесь же, в комнате, и хоронил эхо наших
голосов в подвале башни. После этого папас Аврам заплатил нам
причитающееся за службу и сказал, что, кто хочет, может
остаться в Царьграде. Остальные вместе с ним отправляются
воевать на Дунай...
Неожиданно между Масуди и Никоном Севастом сверкнула
молния страшной ненависти, которую до сих пор обе стороны не
замечали или тщательно скрывали. Это произошло после того, как
Масуди сказал киру Авраму:
- Господин мой, я хочу отблагодарить тебя за твои подарки,
прежде чем мы расстанемся. Я скажу тебе нечто такое, что
обрадует тебя, потому что ты давно жаждешь это узнать. Того,
кто тебе снится, зовут Самуэль Коэн***.
- Ложь! - вскрикнул вдруг Севаст, схватил зеленый мешок
Масуди и швырнул его в очаг, который горел в комнате. Масуди с
неожиданным спокойствием повернулся к папасу Авраму и сказал,
показывая на Никона Севаста:
- Посмотри на него, господин, у него только одна ноздря в
носу, и мочится он хвостом, как положено Сатане.
Папас Аврам подхватил попугая, державшего в когтях фонарь,
и опустил его на пол. Стало светлее, и мы увидели, что нос
Никона Севаста и правда был с одной ноздрей, черной и
неразделенной посередине перегородкой, как это и бывает у
нечистых. Тогда папас Аврам сказал ему; - Ты, значит, из тех,
кто не меняет обувь? - Да, господин, но я не из тех, кто
страдает медвежьей болезнью. Я не отрицаю того, что я Сатана, -
признал он без колебания, - я только напоминаю, что я
принадлежу к преисподней христианского мира и неба, к злым
духам греческой территории, к аду православной церкви. Потому
что точно так же, как небо над нами поделено между Иеговой,
Аллахом и Богом-отцом, преисподняя поделена между Асмодеем,
Иблисом и Сатаной. По случайности я попался на земле нынешней
турецкой империи, но это не дает права Масуди и другим
представителям исламского мира судить меня. На это уполномочены
только представители христианской церкви, лишь их юрисдикция
может быть признана правомочной. В противном случае может
оказаться, что христианские или еврейские судьи начнут судить
представителей исламского ада, если те окажутся в их руках.
Пусть наш Масуди подумает об этом предупреждении... На это
папас Аврам ответил:
- Мой отец, Иоаникий Бранкович, имел дело с такими, как
ты. В каждом нашем доме в Валахии всегда были собственные
домашние ведьмы, чертенята, оборотни, с которыми мы ужинали,
насылали на них добрых духов-защитников, заставляли считать
дырки в решете и находили возле дома их отвалившиеся хвосты,
собирали с ними ежевику, привязывали их у порога или к волу и
секли в наказание и загоняли в колодцы. Как-то вечером в Джуле
отец застал в нужнике сидящим над дырой огромного снеговика.
Ударил его фонарем, убил и пошел ужинать. На ужин были щи с
кабанятиной. Сидит он над щами, как вдруг - шлеп! - голова его
падает в тарелку. Поцеловался он с собственным лицом, которое
оттуда выглядывало, и захлебнулся в тарелке щей. Прямо у нас на
глазах, прежде чем мы поняли, что происходит. Я и по сей день
помню, что, захлебываясь в щах, он вел себя так, словно был в
объятиях любимой, обнимал миску обеими руками, будто перед ним
не щи с кабаном, а чья-то голова. Одним словом, хоронили мы его
так, будто вырывали из чьих-то крепких объятий... А сапог отца
бросили в Муреш, чтобы он не превратился в вампира. Если ты
Сатана, а это так, то скажи мне, что означала смерть моего отца
Иоаникия Бранковича?
- Это вы узнаете сами и без моей помощи, - ответил
Севаст.- Но я вам скажу кое-что другое. Я знаю слова, которые
звучали в ушах вашего отца, когда он умирал: "Немного вина,
вымыть руки!" Это прозвенело у него в ушах в момент смерти. И
теперь еще одно, чтобы вы не сказали потом, что я все из пальца
высосал.
Вы занимаетесь хазарским словарем несколько десятилетий,
давайте и я что-нибудь к нему добавлю.
Слушайте теперь то, чего вы не знаете. Три реки античного
мира мертвых - Ахеронт, Пирифлегетон и Коцит - принадлежат
сейчас преисподням ислама, иудаизма и христианства; их русла
разделяют три ада - Геенну, Ад и ледяную преисподнюю магометан,
под территорией бывшей страны хазар. Здесь как раз и сходятся
границы трех загробных миров: огненное государство Сатаны с
девятью кругами христианского Ада, с троном Люцифера и
знаменами владыки ада; исламский ад с царством ледяных мук
Иблиса и область Гевары с левой стороны от Храма, где сидят
еврейские боги зла, вожделения и голода, Геенна во власти
Асмодея. Эти три ада и существуют отдельно, граница между ними
пропахана железным плугом, и никому не позволено ее переходить.
Правда, вы все эти три ада представляете себе неправильно,
потому что у вас нет опыта. В еврейском аду, в державе ангела
тьмы и греха Велиала, корчатся в огне вовсе не евреи, как вы
думаете. Там горят одни лишь арабы и христиане. Точно так же и
в христианском пекле нет христиан - в огонь там попадают
магометане или сыны и дочери Давида; в то время как в
магометанском аду страдают только христиане и евреи, ни одного
турка или араба там нет. Теперь представьте себе Масуди,
который трепещет при мысли о своем таком страшном, но хорошо
ему известном пекле и который вместо этого попадает в еврейский
Шеол или христианский Ад, где его буду встречать я! Вместо
Иблиса он увидит Люцифера. Представьте себе христианское небо
над адом, в котором мучается еврей!
Советую вам воспринять это как важнейшее, серьезнейшее
предупреждение, господин! Как глубочайшую мудрость. Здесь, на
белом свете, - никаких дел, ничего общего, в чем могут
пересечься три мира: ислам, христианство и иудаизм! Чтобы не
пришлось потом иметь дело с преисподнями трех этих миров.
Потому что с теми, кто друг друга ненавидит, на этом свете нет
никаких затруднений. Они всегда похожи. Враги одинаковы или же
со временем становятся одинаковыми, в противном случае они не
могли быть врагами. Самую большую опасность представляют те,
кто действительно отличаются друг от друга. Они стремятся
узнать друг друга, потому что им различия не мешают.
Вот эти-то хуже всего. С теми, кто спокойно относится к
тому, что мы отличаемся от них, с теми, кому эти различия не
мешают спать, мы будем сводить счеты и сами и, объединив силы с
собственными врагами, навалимся на них с трех сторон разом...
На это кир Аврам Бранкович сказал, что ему все-таки не все
здесь ясно, и спросил:
- Почему же вы до сих пор так не сделали, если не ты, у
которого хвост пока не отвалился, то другие, более старые и
опытные? Чего вы ждете, пока мы строим наш дом на фундаменте
"Отче наш"?
- Мы выжидаем время, господин. Кроме того, мы, дьяволы,
можем сделать свой шаг только после того, как его сделаете вы,
люди. Каждый наш шаг должен ступать в ваш след. Мы всегда на
шаг отстаем от вас, мы ужинаем только после вашего ужина, и
также, как и вы, не видим будущего. Итак, сначала вы, потом мы.
Но я скажу тебе и то, что ты, господин, пока еще не сделал ни
одного шага, который бы заставил нас преследовать тебя. Если ты
это когда-нибудь сделаешь, ты или кто-нибудь из твоих потомков,
мы вас настигнем в один из дней недели, имя которого не
упоминается. Но пока все в порядке. Потому что вы - ты и твой
красноглазый курос - никак не сможете встретиться, даже если он
и появится здесь, в Царьграде. Если он видит во сне вас так же,
как вы видите его, если он во сне создает вашу явь так же, как
и его явь создана вашим сном, то вы никогда не сможете
посмотреть друг другу в глаза, потому что вы не можете
одновременно бдеть. Но все же не искушайте нас. Поверьте мне,
господин, гораздо опаснее составлять словарь о хазарах из
рассыпанных слов здесь, в этой тихой башне, чем идти воевать на
Дунай, где уже бьются австрийцы и турки. Гораздо опаснее
поджидать чудовище из сна здесь, в Царьграде, чем, выхватив
саблю, мчаться на врага, а вам это дело, господин, по крайней
мере, хорошо знакомо. Подумайте об этом и отправляйтесь туда,
куда вы собрались, без сомнений, и не слушайте этого
анатолийца, который апельсин макает в соль...
-Что же касается остального, господин, - закончил Севаст,-
вы, конечно, можете передать меня христианским духовным властям
и подвергнуть судебному процессу, предусмотренному для
нечестивых и ведьм. Но прежде чем вы это сделаете, позвольте
мне задать вам один-единственный вопрос. Уверены ли вы в том,
что ваша церковь будет существовать и сможет судить и через
триста лет так же, как она делает это сейчас? - Конечно,
уверен, - ответил папас Аврам. - Ну так и докажите это: ровно
через 293 года встретимся снова, в это же время года, за
завтраком, здесь, в Царьграде, и тогда судите меня так, как бы
вы сделали это сегодня...
Папас Аврам улыбнулся, сказал, что согласен, и убил еще
одну муху кончиком хлыста.
Кутью мы сварили на утренней заре, обложили горшок
подушками и поставили в дорожную сумку, чтобы папасу Авраму
было нехолодно спать. Мы отправились в путь - на корабле через
Черное море до устья Дуная, а оттуда вверх по течению.
Последние ласточки пролетали над Дунаем, перевернувшись вниз
черными спинками, которые отражались в воде вместо их белых
грудок. Начались туманы, и птицы летели на юг, неся за собой
через леса и через Железные ворота какую-то плотную оглушающую
тишину, которая, казалось, вобрала в себя тишину всего мира. На
пятый день возле Кладова нас встретил конный отряд из
Трансильвании, пропитанный горькой румынской пылью с другого
берега.
Когда наступило утро, папас Аврам, уставший от ночного
боя, заснул перед своим шатром, а Масуди и Никон Севаст сели
играть в кости. Никон уже третий день подряд проигрывал
огромные суммы, а Масуди не прекращал игры. Должно быть, у них
- спящего Бранковича и двух игроков - были какие-то очень
серьезные причины оставаться на открытом месте под градом ядер
и пуль. У меня таких причин не было, и я вовремя укрылся в
безопасном месте. Как раз тут на наши позиции ворвался турецкий
отряд, уничтожая все живое, а вслед за ними Сабляк-паша** из
Требинья, который смотрел не на живых, а на мертвых. За ним на
место побоища влетел бледный юноша, у которого один ус был
седым, словно он постарел лишь наполовину. На шелковом
нагруднике папаса Аврама был вышит герб Бранковича с одноглазым
орлом. Один из турок вонзил копье в эту вышитую птицу с такой
силой, что было слышно, как металл, пробив грудную клетку
спящего, ударил в камень под Бранковичем. Пробуждаясь в смерть,
Бранкович приподнялся на одной руке, последнее, что он увидел в
жизни, был красноглазый юноша со стеклянными ногтями и одним
серебристым усом. Тут Бранковича прошиб пот, и две струи его
завязались у него на шее узлом. Рука его задрожала так, что он,
уже пронзенный копьем, посмотрел на нее с удивлением и всей
своей тяжестью налег на руку, чтобы она перестала дрожать. Она
все же еще некоторое время трепетала, успокаиваясь, как задетая
струна, а когда успокоилась совсем, он без звука упал на эту
руку. В тот же момент и юноша рухнул прямо на собственную тень,
будто скошенный взглядом Бранковича, а мешок, который был у
него на плече, покатился в сторону.
- Неужели Коэн погиб? - воскликнул паша, а турки, решив,
что в юношу выстрелил один из игроков, в мгновение ока изрубили
Никона Севаста, все еще сжимавшего в руке кости, которые он
собирался бросить. Потом они обернулись к Масуди, но он сказал
что-то паше по-арабски, обращая его внимание на то, что юноша
не мертв, а спит. Это продлило жизнь Масуди на один день,
потому что паша приказал зарубить его не в тот же день, а на
следующий. Так оно потом и было.
"Я мастер сабельного боя - так заканчивается запись
Аверкия Скилы об Авраме Бранковиче,- я знаю, что, когда
убиваешь, всякий раз это бывает по-другому, так же как всякий
раз по-другому бывает в постели с каждой новой женщиной.
Разница только в том, что некоторых потом забываешь, а
некоторых нет. Опять же, некоторые из убитых и некоторые
женщины не забывают тебя. Смерть кира Аврама Бранковича была из
тех, которые помнят. Было это так. Откуда-то прибежали слуги
паши с корытом горячей воды, обмыли кира Аврама и передали его
какому-то старику, который третью свою туфлю с бальзамами,
травами и куделью носил подвешенной на груди. Я подумал, что он
будет исцелять раны папаса Аврама, но он намазал его белилами и
румянами, побрил, причесал, и такого отнесли его в шатер
Сабляк-паши...
На другое утро в этом шатре он и умер. Это было в 1689
году, по мусульманскому летосчислению, в день священномученика
Евтихия. В тот момент, когда Аврам Бранкович испустил дух.
Сабляк-паша вышел из шатра и потребовал немного вина, чтобы
вымыть руки".
КАГАН**** - хазарский правитель. Столицей Хазарского
государства был Итиль, а летняя резиденция кагана находилась на
Каспийском море и называлась Семендер. Считается, что прием
греческих миссионеров при хазарском дворе был результатом
политического решения. Еще в 740 году один из хазарских каганов
просил Царьград прислать ему миссионера, сведущего в
христианской вере. В IX веке возникла необходимость укрепить
греко-хазарский союз перед лицом общей опасности: в это время
русские уже водрузили свой щит над царьградскими вратами и
отвоевали у хазар Киев. Существовала и еще одна опасность. У
правившего в то время кагана не было престолонаследника.
Однажды к нему явились греческие купцы, он принял их и угостил.
Все они были низкорослые, чернявые и заросшие волосами
настолько, что даже на груди у них виднелся пробор. Каган,
сидевший с ними за обедом, казался великаном. Приближалась
непогода, и птицы ударялись в окно, как мухи в зеркало.
Проводив и одарив путешественников, каган вернулся туда, где
они обедали, и случайно бросил взгляд на оставшиеся на столе
объедки. Объедки греков были огромными, как у великанов, а
объедки кагана крошечными, как у ребенка. Он тут же призвал к
себе придворных, чтобы они ему напомнили, что говорили
иностранцы, но никто ничего не помнил, В основном греки
молчали, таково было общее мнение. Тут к кагану обратился один
еврей из придворной свиты и сказал, что сможет помочь кагану.
- Посмотрим, каким образом, - ответил каган и лизнул
немного святой соли. Еврей привел к нему раба и приказал тому
обнажить руку. Рука была точной копией правой руки кагана.
- Оставь его, - сказал каган. - Оставь и действуй дальше.
Ты на правильном пути.
И вот были разосланы гонцы по всему хазарскому царству, и
через три месяца еврей привел к кагану юношу, ступни которого
были совершенно такими же, как ступни кагана. Потом нашли Два
колена, одно ухо и плечо- все точно как у кагана. Мало-помалу
при дворе собралось много юношей, среди них были и солдаты, и
рабы, и веревочники, евреи, греки, хазары, арабы, которые -
если от каждого взять определенную часть тела или член - могли
бы составить молодого кагана, как две капли воды похожего на
того, который правил в Итиле. Не хватало только головы. Ее
никак не могли найти. И вот наступил день, когда каган вызвал к
себе еврея и потребовал голову - его или кагана. Еврей
нисколько не испугался, и каган, удивленный, спросил почему.
- Причина в том, что я испугался еще год назад, а не
сегодня. Год назад я нашел и голову. Уже несколько месяцев я
храню ее здесь, при дворе, но не решаюсь показать.
Каган приказал показать голову, и еврей привел к нему
девушку. Она была молода и красива, а ее голова настолько была
похожа на голову кагана, что могла бы служить ее отражением.
Если бы кто-то увидел ее в зеркале, то решил бы, что видит
кагана, только более молодого. Тогда каган приказал привести
всех собранных и велел еврею сделать из них еще одного кагана.
Пока расползались оставшиеся в живых калеки, части тела которых
были использованы для создания второго кагана, еврей написал на
лбу нового существа какие-то слова, и молодой наследник
поднялся с постели кагана. Теперь его нужно было испытать, и
еврей послал его в покои возлюбленной кагана, принцессы Атех.
Наутро принцесса велела передать настоящему кагану следующие
слова:
- Тот, кто был прислан вчера вечером ко мне на ложе,
обрезан, а ты нет. Значит, или он не каган, а кто-то другой,
или каган перешел к евреям, совершил обрезание и стал кем-то
другим. Итак, реши, что же случилось. Каган тогда спросил
еврея, что может значить это различие. Тот отвечал: - Да ведь
различия не будет, как только ты сам совершишь обрезание. Каган
не знал, на что решиться, и снова спросил совета у принцессы
Атех. Она отвела его в подвалы своего дворца и показала
двойника. По ее приказу он был закован в цепи и брошен за
решетку. Но цепи он сумел разорвать и сотрясал решетку с
невероятной силой. За одну ночь он так вырос, что настоящий,
необрезанный каган казался рядом с ним ребенком.
- Хочешь, я выпущу его? - спросила принцесса. Тут каган до
того перепугался, что приказал убить обрезанного кагана.
Принцесса Атех плюнула великану в лоб, и он упал мертвым.
Тогда каган обратился душой к грекам, заключил с ними
новый союз и назвал их веру своей.
КИРИЛЛ (Константин Солунский, или Константин Философ, 826
или 827-869) - православный святой, греческий участник
хазарской полемики, один из основателей славянской
письменности...
Даубманус приводит такой рассказ о возникновении
славянской азбуки. Язык варваров никак не хотел поддаваться
укрощению. Както, быстрой трехнедельной осенью, сидели братья в
келье и тщетно пытались написать письмена, которые позже
получат название кириллицы. Работа не клеилась. Из кельи была
прекрасно видна середина октября, и в ней тишина длиной в час
ходьбы и шириной в два. Тут Мефодий обратил внимание брата на
четыре глиняных кувшина, которые стояли на окне их кельи, но не
внутри, а снаружи, по ту сторону решетки.
- Если бы дверь была на засове, как бы ты добрался до этих
кувшинов? - спросил он. Константин разбил один кувшин, черепок
за черепком перенес сквозь решетку в келью и собрал по
кусочкам, склеив его собственной слюной и глиной с пола под
своими ногами.
То же самое они сделали и со славянским языком - разбили
его на куски, перенесли их через решетку кириллицы в свои уста
и склеили осколки собственной слюной и греческой глиной под
своими ногами...
В тот же год к византийскому императору Михаилу III
прибыло посольство от хазарского кагана, который просил
направить к нему из Царьграда человека, способного объяснить
основы христианского учения. Император обратился за советом к
Фотию, которого звал "хазарским лицом". Этот шаг был
двусмысленным, однако Фотий к просьбе отнесся серьезно и
порекомендовал своего подопечного и ученика Константина
Философа, который, как и его брат Мефодий, отправился со своей
второй дипломатической миссией, названной хазарской.
СЕВАСТ НИКОН (XVII век) - существует предание, что одно
время под этим именем на Балканах, на берегу Моравы в Овчарском
ущелье, жил Сатана. Он был необыкновенно мирным, всех людей
окликал их собственным именем и зарабатывал себе на жизнь в
монастыре Николья, где был старшим писарем. Где бы он ни сел,
после него оставался отпечаток двух лиц, а вместо хвоста у него
был нос. Он утверждал, что в прошлой жизни был дьяволом в
еврейском аду и служил Велиалу и Гаваре, хоронил взрослых на
чердаках синагог, и однажды осенью, когда птичий помет был
ядовитым и прожигал листья и траву, на которые попадал, Севаст
нанял человека, чтобы тот его убил. Таким способом он мог
перешагнуть из еврейского в христианский ад и затем в новой
жизни служить Сатане.
По другим слухам, он и не умирал, а дал однажды собаке
лизнуть немного своей крови, вошел в могилу какого-то турка,
схватил его за уши, содрал с него кожу и натянул ее на себя.
Поэтому из его прекрасных турецких глаз выглядывали козьи
глаза...
Одевался он богато, и ему прекрасно удавалась церковная
настенная живопись, а этот дар, как говорит предание, дал ему
архангел Гавриил. В церквах Овчарского ущелья на его фресках
остались записи, которые, если читать их в определенной
последовательности от фрески к фреске, от монастыря до
монастыря, содержат послание. И его можно складывать до тех
пор, пока будут существовать эти фрески. Это послание Никон
составил для себя самого, когда через триста лет он опять
вернется из смерти в мир живых, потому что демоны, как он
говорил, не помнят ничего из предыдущей жизни и должны
позаботиться о себе загодя. Первое время, только начав
заниматься живописью, он и не был особо удачливым художником.
Работал он левой рукой, фрески его были красивыми, но их
невозможно было запомнить, они как бы исчезали со стен, как
только на них переставали смотреть. Как-то утром Севаст в
отчаянии сидел перед своими красками. Вдруг он почувствовал,
как новая, другая тишина вплыла в его молчание и разбила его.
Рядом молчал еще кто-то, но молчал не на его языке. Тогда Никон
начал молить архангела Гавриила, чтобы тот удостоил его милости
красок...
В августе 1670 года, накануне Дня семи святых эфесских
мучеников, когда кончается запрет есть оленину, Никон Севаст
сказал:
- Один из верных путей в истинное будущее (а есть ведь и
ложное будущее) - это идти в том направлении, в котором растет
твой страх.
И отправился на охоту. С ним был и один монах, Теоктист
Никольски, который ему в монастыре помогал переписывать книги.
Эта охота вошла в историю, вероятно, благодаря записям
Теоктиста...
Тут явился Никону архангел Гавриил в облике оленя, иными
словами, обращенный в душу Никона Севаста. А говоря еще точнее:
архангел принеся душу Никону в подарок. Таким образом, Никон в
тот день охотился и поймал собственную душу и заговорил с ней.
- Глубока твоя глубина и велика твоя слава, помоги мне
восхвалять тебя в красках! - вскричал Севаст, обращаясь к
архангелу, или к оленю, или к собственной душе, короче к тому,
что там было. - Я хочу нарисовать ночь между субботой и
воскресеньем, а на ней твою самую прекрасную икону, чтобы на
тебя молились и в других местах, не видя ее! Тогда архангел
Гавриил сказал:
- Пробидев поташта се озлобити...- и монах понял, что
архангел говорит, пропуская существительные. Потому что
существительное - для Бога, а глаголы для человека. На это
иконописец ответил:
- Как же мне работать правой, когда я левша? - Но оленя
уже не было перед ним, и монах тогда спросил Никона: - Что это
было? А тот совершенно спокойно ответил:
- Ничего особенного, это все временное, я здесь просто на
пути в Царьград... А потом добавил:
- Человека сдвинешь с места, где он лежал, а там черви,
букашки, прозрачные, как драгоценности, плесень...
И радость охватила его всего, как болезнь, он переложил
свою кисть из левой руки в правую и начал писать. Краски
потекли из него, как молоко, и он едва успевал их класть...
Он кормил и исцелял красками, расписывая все вокруг:
дверные косяки и зеркала, курятники и тыквы, золотые монеты и
башмаки. На копытах своего коня он нарисовал четырех
евангелистов - Матфея, Марка, Луку и Иоанна, на ногтях своих
рук - десять божьих заповедей, на ведре у колодца - Марию
Египетскую, на ставнях - одну и другую Еву (первую Еву - Лилит
и вторую-Адамову). Он писал на обглоданных костях, на зубах,
своих и чужих, на вывернутых карманах, на шапках, на потолках.
На живых черепахах он написал лики двенадцати апостолов,
выпустил их в лес, и они расползлись. Тишина стояла в ночах,
как в покоях, он выбирал любой, входил, зажигал за доской огонь
и писал икону-диптих. На этой иконе он изобразил, как архангелы
Гавриил и Михаил через ночь передают друг другу из одного дня в
другой душу грешницы, при этом Михаил стоял во вторнике, а
Гавриил в среде. Ноги их упирались в написанные названия этих
дней, и из ступней сочилась кровь, потому что верхушки букв
были заостренными. Работы Никона Севаста зимой, в отсвете
снежной белизны, казались лучше, чем летом, на солнце. Была в
них тогда какая-то горечь, будто они написаны в полутьме, были
какие-то улыбки на лицах, которые в апреле гасли и исчезали до
первого снега...
Его новые иконы и фрески запоминались на всю жизнь; монахи
со всей округи и живописцы из всех монастырей Овчарского ущелья
собирались в Николье, будто их кто созвал, смотреть на краски
Никона. Монастыри начали наперебой зазывать его к себе, его
икона приносила столько же, сколько и виноградник, а фреска на
стене стала такой же быстрой, как конь... Однажды Никон
задумался и сказал себе:
- Раз я, левша, так рисую правой, как бы я мог рисовать
левой! - и переложил кисть в левую руку...
Эта весть сразу разнеслась по монастырям, и все
ужаснулись, уверенные, что Никон Севаст опять вернулся к Сатане
и будет наказан. Во всяком случае, уши его стали опять острыми
как нож, так что говорили - его ухом можно кусок хлеба
отрезать. Но его мастерство осталось таким же, левой он писал
так же, как и правой, ничего не изменилось, заклятие архангела
не сбылось.
Вскоре после этого и другие, более старые живописцы и
иконописцы, один за другим, будто отчаливая от пристани и
выгребая на большую воду, начали писать все лучше и лучше и
приближаться в своем умении к Никону Севасту, который раньше
был для них недостижимым образцом. Так озарились и обновились
стены всех монастырей ущелья, и Никон вернулся на то же место,
с которого он начал движение от левой к правой руке. И тогда он
понял, какому наказанию подвергнут. Не выдержав этого, он
сказал:
- Зачем мне быть таким же иконописцем, как остальные?
Теперь каждый может писать как я...
И он навсегда бросил свои кисти и никогда больше ничего не
расписал. Даже яйца. Выплакал все краски из глаз в монастырскую
ступку для красок и со своим помощником Теоктистом ушел из
Николья, оставляя за собой след пятого копыта. На прощанье
сказал:
- Знаю я в Царьграде одного важного господина, у которого
чуб толст, как конский хвост, он нас наймет писарями. И назвал
имя. Имя это было: кир Аврам Бранкович *.
Д-р ИСАИЛО СУК (15.III.1930-2.Х.1982) - археолог, арабист,
профессор университета в Нови-Саде, проснулся апрельским утром
1982 года с волосами под подушкой и легкой болью во рту. Ему
мешало что-то твердое и зубчатое. Он засунул в рот два пальца,
как будто полез в карман за расческой, и вынул изо рта ключ.
Маленький ключ с золотой головкой. Человеческие мысли и сны
имеют свои ороговевшие, непроницаемые внешние части, которые,
как кожура, защищают мягкую сердцевину от повреждений, - так
думал д-р Сук, лежа в постели и глядя на ключ. Вместе с тем
мысли при соприкосновении со словами точно так же быстро
гаснут, как слова при соприкосновении с мыслями. Нам остается
только то, что сможет пережить это взаимное убийство. Короче
говоря, д-р Сук хлопал глазами, мохнатыми, как мошонка, и
ничего не мог понять. Главным образом его удивляло не то,
откуда у него во рту ключ. Его удивляло другое. По его оценке,
ключу этому было не менее тысячи лет, а заключения профессора
Сука в области археологии обычно принимались безоговорочно.
Научный авторитет профессора Сука был непререкаемым. Он сунул
ключик в карман брюк и принялся грызть ус. Стоило ему утром
погрызть ус, как в его памяти сразу всплывало, что он накануне
ел на ужин. Например, сейчас он сразу же вспомнил, что это были
тушеные овощи и печенка с луком. Правда, усы иногда при этом
вдруг начинали пахнуть, например, устрицами с лимоном или еще
чем-нибудь таким, что д-р Сук никогда бы не взял в рот. Тогда
д-р Исайло начинал вспоминать, с кем он накануне в постели
обменивался впечатлениями об ужине. Вот так этим утром он
добрался до Джельсомины Мохоровичич...
В настоящий момент он находился в столице, где всегда
наведывался в родительский дом. Здесь тридцать лет назад
профессор Сук начал свои исследования, которые уводили его все
дальше и дальше от этого дома, и он невольно чувствовал, что
путь его закончится далеко, не здесь, в каком-то краю, где
стоят холмы, поросшие соснами, напоминающие разломанный хлеб с
черной коркой, И все же его археологические исследования и
открытия в области арабистики, и особенно труды о хазарах,
древнем народе, который давно исчез с арены мировых событий,
оставив истории изречение, что и у души есть скелет и этот
скелет - воспоминания, попрежнему оставались связаны с этим
домом. Дом когда-то принадлежал его левоногой бабке, в которую
и он родился левшой. Сейчас здесь, в доме его матери, госпожи
Анастасии Сук, на почетных местах расставлены книги д-ра Сука,
переплетенные в мех от старых шуб, они пахнут смородиной, и
читают их с помощью особых очков, которыми госпожа Анастасия
пользуется только в торжественных случаях...
В то время, когда профессор Сук стоял на пороге третьего
десятилетия своих исследований, когда глаза его стали быстрыми,
а губы медленнее ушных раковин, когда его книгами начали все
чаще пользоваться в археологии и ориенталистике, у него
появилась еще одна причина наведываться в столицу. Однажды
утром здесь, в большом здании, пышном, как слоеный торт, в
шляпу, из которой позже вытаскивают записки, было опущено и имя
д-ра Исайло Сука. Правда, ни в тот раз, ни позже оно не было
вытащено, однако д-р Сук регулярно получает приглашения на
заседания в этом здании. Он приезжает на эти заседания со
вчерашней улыбкой, растянутой на губах, как паутина, и теряется
в коридорах здания, в круговых коридорах, идя по которым,
однако, никогда нельзя прийти на место, с которого ты начал
движение. Он подумал, что это здание похоже на книгу,
написанную на незнакомом языке, которым он еще не овладел, его
коридоры - на фразы чужого языка, а комнаты - на иностранные
слова, которых он никогда не слышал. И он нисколько не был
удивлен, когда ему однажды сообщили, что в одной из комнат на
первом этаже, где пахнет раскаленными замочными скважинами, он
должен быть подвергнут обязательному здесь экзамену. На втором
этаже, где вытаскивались свернутые трубочкой бумажки, авторитет
его книг был бесспорным, однако этажом ниже в этом же самом
здании он чувствовал себя коротконогим, будто штанины его брюк
постоянно удлиняются. Здесь болтался народ, подчиненный тем,
что были выше, на втором этаже, но здесь его книги не
принимались во внимание, и он ежегодно подвергался экзамену,
причем предварительно тщательно проверялось, кто он такой.
После экзамена, правда, д-ру Суку не сообщили оценку, которая,
конечно же, была где-то зафиксирована, однако председатель
экзаменационной комиссии весьма похвально отозвался о
профессиональных данных кандидата. В тот день д-р Сук с большим
облегчением отправился после экзамена к матери. Она, как и
обычно, отвела его в столовую и здесь, закрыв глаза, показала
ему прижатую к груди новейшую работу д-ра Сука с авторским
посвящением. Из учтивости он взглянул на книгу, украшенную
собственным автографом, а потом мать, как всегда, усадила его
на табуретку в углу комнаты... С завидной точностью она
рассказала сыну, что профессор Сук установил: ключи, найденные
в одном глиняном сосуде в Крыму, вместо головки имели
серебряные, медные или золотые имитации монет, встречавшиеся у
варваров. Всего было найдено 135 ключей (д-р Сук считал, что их
было до десяти тысяч в одном сосуде), и на каждом он нашел по
одному маленькому значку или букве. Сначала он подумал, что это
знак мастера или что-нибудь в этом роде, но потом заметил, что
на монетах большей стоимости оттиснута другая буква. На
серебряных монетах была третья буква, а на золотых, как он
предполагал, четвертая, хотя не было найдено ни одного ключа с
золотой головкой. И потом он пришел к гениальному выводу (на
этом важном месте мать попросила его не вертеться и не
прерывать ее вопросами): он распределил монеты по стоимости и
прочитал зашифрованную запись или послание, которое возникнет,
если буквы на монетах сложить в одно целое. Эта надпись была:
"ATE", и недоставало только одной буквы (той самой, с золотой
монеты, которая не была найдена). Д-р Сук предположил, что эта
недостающая буква могла быть одной из священных букв еврейского
алфавита, возможно это была буква "X", четвертая буква
божественного имени... А ключ, который ее носит, предвещает
смерть.
Тем временем, каждую вторую весну, имя д-ра Сука опять
оказывалось в той самой шляпе за дверями, пахнущими
раскаленными замочными скважинами. Его об этом не оповещали, и
он никогда не знал исхода... Экзамены теперь проводились все
чаще, и на председательском месте всегда сидел кто-то новый. У
д-ра Сука была одна студентка, которая очень рано облысела, но
по ночам собака лизала ей темя, отчего у нее на голове выросла
густая пестрая шерсть. Она была такой толстой, что не могла
снять с пальцев свои перстни, и носила брови в форме маленьких
рыбьих скелетов, а вместо шапки - шерстяной чулок. Спала она на
своих зеркалах и гребнях и, разыскивая в снах своего маленького
сына, свистела, отчего он, лежа рядом с ней, не мог спать.
Сейчас она экзаменовала д-ра Сука, а ребенок сидел рядом,
невыспавшийся и лысый. Чтобы как можно скорее разделаться с
экзаменом, по ходу дела он отвечал и на вопросы ребенка. Когда
все это кончилось, он пришел обедать к своей матери и был
настолько разбит, что мать посмотрела на него с тревогой и
сказала: "Смотри, Саша, твое будущее разрушает прошлое! Ты
плохо выглядишь..."
- Знаешь ли ты, сколько ротовых отверстий у евреев? -
спросила его мать в тот день, пока он ел. - Наверное, не
знаешь... Об этом писал кто-то, кого я недавно читала, кажется
д-р Сук. Это было в то время, когда он занимался диффузией
библейских понятий в степях Евразии. Основываясь на
исследованиях, которые он проводил еще в 1959 году на месте
раскопок в Челареве, на Дунае, он установил, что там находилось
поселение совершенно незнакомой нам популяции, гораздо более
примитивной и в антропологическом отношении более старой, чем
авары. Он считает, что это захоронение хазар, которые пришли с
Черного моря, сюда, на Дунай, еще в VIII веке. Теперь уже
поздно, но ты мне напомни завтра, когда придешь на день
рождения Джельсомины, я тебе прочитаю потрясающие страницы, где
он об этом пишет. Исключительно интересно...
С этим обещанием д-р Сук проснулся и нашел во рту ключ.
Когда он вышел на улицу, полдень уже разболелся вовсю, какая-то
световая чума разъедала солнечное сияние, оспы и нарывы воздуха
распространялись по небу и лопались в настоящей эпидемии,
которая охватила и облака, так что они гнили и разлагались, все
медленнее летя по небу...
Один из мальчиков, игравших на улице- а игра их
заключалась в том, что они менялись штанами, - остановился у
киоска, где д-р Сук покупал газеты, и обмочил одну его штанину.
Д-р Сук обернулся с видом человека, который вечером заметил,
что целый день у него были расстегнуты пуговицы на брюках, но
тут совершенно незнакомый мужчина со всей силы влепил ему
оплеуху. Было холодно, и д-р Сук через оплеуху почувствовал,
что рука ударившего была очень теплой, и это показалось ему,
несмотря на боль, даже немного приятным. Он повернулся к
дерзкому типу, готовый объясниться, но в этот момент
почувствовал, что его штанина, совершенно мокрая, прилипла к
ноге. Тут его ударил второй человек, который ждал сдачу за
газеты. Тогда д-р Сук решил, что лучше ему удалиться, так он и
сделал, ровным счетом ничего не поняв в происходящем, кроме
того, что вторая оплеуха пахла чесноком. Да и нельзя было
терять времени, так как вокруг него уже собрались прохожие,
удары сыпались как нечто совершенно естественное, и д-р Сук
чувствовал, что у некоторых из тех, кто отвешивал оплеухи, руки
были холодными, и это теперь казалось даже приятным, потому что
ему уже стало жарко. Во всей этой неразберихе он отметил для
себя еще одно благоприятное обстоятельство, хотя времени для
раздумий у него не было, ведь между двумя оплеухами много не
подумаешь. Он успел заметить, что удары (от некоторых из них
несло потом) гнали его в направлении от церкви святого Марка к
площади, то есть туда, куда он и сам намеревался идти, а именно
- прямо к лавке, где он собирался сделать покупку. И он отдался
во власть ударов, приближавших его к цели...
Д-р Сук влетел наконец в лавку (собственно, ради этого он
и вышел утром из дома) и с облегчением захлопнул за собой
дверь. Было тихо, как в баке с огурцами, и только воняло
кукурузой. В лавке было пусто, а в одном углу в шапке, как в
гнезде, сидела курица. Она посмотрела на д-ра Сука одним глазом
и оценила, что на нем можно съесть. Потом повернулась другим
глазом и рассмотрела все, что нельзя переварить. Задумалась на
мгновение, и наконец д-р Сук появился в ее сознании полностью,
вновь составленный из перевариваемых и неперевариваемых частей,
так что в конце концов ей стало ясно, с кем она имеет дело. О
том, как события развивались дальше, пусть расскажет он сам.
Рассказ про яйцо и смычок
Стою в приятной прохладе и чувствую легкость, говорит он.
Скрипки перекликаются, и из этих тихих вздохов можно целый
полонез сложить, так же как составляют шахматную партию. Только
немного изменить звуки и их последовательность. Наконец выходит
венгр, хозяин музыкальной лавки. Глаза у него цвета сыворотки.
Весь красный, как будто вот-вот яйцо снесет, выпячивает
подбородок, похожий на маленький живот с пупком посредине.
Вынимает карманную пепельницу, стряхивает пепел, аккуратно
защелкивает ее и спрашивает, не ошибся ли я дверью. Меховщик
рядом. Все время заходят сюда по ошибке. Я спрашиваю, нет ли у
него маленькой скрипки для одной маленькой госпожи или, может
быть, небольшой виолончели, если они не очень дороги.
Венгр поворачивается и хочет вернуться туда, откуда он
пришел и откуда доносится запах паприкаша. В этот момент курица
в шапке приподнимается и кудахтаньем обращает его внимание на
снесенное только что яйцо. Венгр осторожно берет яйцо и кладет
в ящик, предварительно что-то написав на нем. Это дата -
2.X.1982, причем я с удивлением понимаю, что наступит она
только через несколько месяцев.
- Зачем вам скрипка или виолончель? - спрашивает он,
оглядываясь на меня в дверях, ведущих из лавки в его комнату. -
Есть пластинки, радио, телевидение. А скрипка, вы знаете, что
это такое - скрипка? Отсюда и до Субботицы все вспахать,
засеять и сжать, и так каждый год - вот что значит приручить
маленькую скрипку вот этим, господин! - И он показывает смычок,
который помещается у него за поясом подобно сабле. Он
вытаскивает его и натягивает струны пальцами, охваченными
перстнями вокруг ногтей, как бы для того, чтобы ногти не
отлетели, не отвалились. - Кому это нужно? - спрашивает он и
собирается уйти. - Купите что-нибудь другое, купите ей мопед
или собаку.
Я продолжаю упорно стоять в лавке, растерявшись перед
такой решительностью, хотя она выражена нерешительной,
нетвердой речью, похожей на пищу сытную, но невкусную. Венгр, в
сущности, достаточно хорошо владеет моим языком, однако к
каждой фразе в конце он добавляет, словно пирожное на десерт,
какое-то мне совершенно непонятное венгерское слово. Так делает
он и сейчас, советуя мне:
- Идите, господин, поищите другого счастья для своей
маленькой девочки. Это счастье будет слишком трудным для нее. И
слишком запоздалым. Запоздалым, - повторяет он из облака
паприкаша.- Сколько ей? - спрашивает он деловито.
И тут же исчезает, однако слышно, как он переодевается и
готовится выйти. Я называю ему возраст Джельсомины Мохоровичич.
Семь. При этом слове он вздрагивает, будто к нему прикоснулись
волшебной палочкой. Переводит его про себя на венгерский,
очевидно, считать он может только на своем языке, и какой-то
странный запах расползается по комнате, это запах черешни, и я
понимаю, что этот запах связан с изменением его настроения.
Венгр подносит ко рту что-то стеклянное, похожее на курительную
трубку, из которой он потягивает черешневую водку. Идет через
лавку, как будто случайно наступает мне на ногу, достает
маленькую детскую виолончель и протягивает ее мне, по-прежнему
стоя при этом на моей ноге и тем самым показывая, как у него
тесно. Я стою и делаю вид, что, так же как венгр, просто валяю
дурака. Но он делает это за мой счет, а я - себе в убыток.
- Возьмите это, - говорит он, - дерево старее нас с вами,
вместе взятых. И лак хорош... Впрочем, послушайте!
И проводит пальцем по струнам. Виолончель издает
четырехголосый звук, и он освобождает мою ногу; аккорд,
кажется, несет облегчение всем на свете.
- Слышите, - спрашивает он, - в каждой струне слышны все
остальные. Но для того, чтобы это слышать, нужно слушать четыре
разные вещи одновременно, а мы ленивы для этого. Слышите? Или
не слышите? Четыреста пятьдесят тысяч, - переводит он цену с
венгерского. Я, как от удара, вздрагиваю от этой суммы. Он
будто в карман мне заглянул. Ровно столько у меня и есть. Это
уже давно приготовлено для Джельсомины. Конечно, не такая уж
особенная сумма, я знаю, но я и ее-то едва скопил за три года.
Обрадованный, говорю, что беру...
...- Пятьсот тысяч, пожалуйста, - сказал венгр. Я
похолодел.
- Но вы же сказали - четыреста пятьдесят тысяч?
- Да, я так сказал, но это за виолончель. Остальное за
смычок. Или вы смычок не берете? Вам не нужен смычок? А я
думал, что инструмент без смычка не играет...
Он вынул смычок из футляра и положил его назад в витрину.
Я стоял и не мог вымолвить ни слова, будто окаменел. Но наконец
я пришел в себя и от оплеух, и от венгра, как словно очнулся
после какой-то болезни, похмелья или сонливости, пробудился,
встряхнулся, отказался играть комедию на потеху венгру. Я
попросту упустил смычок из виду, и у меня не было денег, чтобы
купить его. И все это я сказал венгру.
Он рывком набросил на себя пальто, от которого в лавке
запахло нафталином, и сказал:
- Сударь, у меня нет времени ждать, пока вы заработаете на
смычок. Тем более что вы в ваши пятьдесят с лишним так и не
заработали на него. Ждите вы, а не я.
Он было собрался выйти из лавки, оставив меня одного. В
дверях остановился, повернулся ко мне и предложил: - Давайте
договоримся - возьмите смычок в рассрочку! - Вы шутите? -
воскликнул я, не собираясь больше участвовать в его игре, и
направился к двери.
- Нет, не шучу. Я предлагаю вам сделку. Можете не
соглашаться, но выслушайте... - ...Послушаем, - сказал я. -
Купите у меня вместе со смычком и яйцо. - Яйцо?
- Да, вы только что видели яйцо, которое снесла моя
курица. Я говорю о нем, - добавил он, вынул из ящика яйцо и
сунул его мне под нос. На яйце карандашом была написана та
самая дата: 2 октября 1982 года. - Дадите мне за него столько
же, сколько и за смычок, срок выплаты два года...
- Как вы сказали? - спросил я, не веря своим ушам. Из
венгра опять запахло черешней. - Может, ваша курица несет
золотые яйца?
- Моя курица не несет золотые яйца, но она несет нечто
такое, что ни вы, ни я, сударь мой, снести не можем. Она несет
дни, недели и годы. Каждое утро она приносит какую-нибудь
пятницу или вторник. Это, сегодняшнее яйцо, например, содержит
вместо желтка один четверг. В завтрашнем будет среда. Из него
вместо цыпленка вылупится один день жизни его хозяина! Какой
жизни! Они вовсе не золотые, они временные. И я вам еще дешево
предлагаю. В этом яйце, сударь, один день вашей жизни. Он
сокрыт так, как цыпленок, и от вас зависит, вылупится он или
нет.
- Даже если бы я и поверил в ваш рассказ, зачем мне
покупать день, который и так мой?
- Как, сударь, вы совсем не умеете думать? Как, вы не
умеете думать? Разве вы думаете ушами? Ведь все наши проблемы
на этом свете проистекают из того, что мы должны тратить наши
дни такими, какие они есть, из того, что мы не можем
перескочить через .самое, худшее. В этом-то все дело. С моим
яйцом в кармане вы, заметив, что наступающий день слишком
мрачен, разобьете свое яйцо и избежите всех неприятностей. В
конце, правда, у вас будет на один день жизни меньше, но зато
вы сможете сделать из этого плохого дня прекрасную яичницу.
- Если ваше яйцо действительно так замечательно, почему же
вы не оставите его себе? - сказал я, посмотрел ему в глаза и не
понял в них ничего. Он смотрел на меня на чистейшем венгерском
языке.
- Господин шутит? Как вы думаете, сколько у меня уже яиц
от этой курицы? Как вы думаете, сколько дней своей жизни
человек может разбить, чтобы быть счастливым? Тысячу? Две
тысячи? Пять тысяч? У меня сколько хотите . яиц, но не дней.
Кроме того, как и у всех других яиц, у этих есть срок годности.
И эти через некоторое время становятся тухлыми и негодными.
Поэтому я продаю их еще до того, как они потеряют свое
свойство, сударь мой. А у вас нет выбора. Дадите мне расписку,
- добавил он под конец, накорябал что-то на клочке бумаги и
сунул мне подписать.
- А может ли ваше яйцо, - спросил я, - отнять или
сэкономить день и предмету, например книге?
- Конечно, может, нужно только разбить яйцо с тупой
стороны. Но в таком случае вы упустите возможность самому
воспользоваться им.
Я подписался на колене, заплатил, получил чек, услышал еще
раз, как квохчет в соседней комнате курица, а венгр уложил в
футляр виолончель со смычком и осторожно завернул яйцо, и я
наконец покинул лавку. Он вышел за мной, потребовал, чтобы я
посильнее потянул на себя дверную ручку, покуда он закрывал на
ключ свою дверь-витрину, и я, таким образом, опять оказался
втянут в какую-то его игру. Он, не сказав ни слова, пошел в
свою сторону и только на углу оглянулся и бросил:
- Имейте в виду, дата, написанная на яйце, это срок
годности. После этого дня яйцо больше не имеет силы...
Возвращаясь из лавки, д-р Сук все время опасался, как бы
не начались опять уличные безобразия, но этого не произошло.
Тут застал его дождь... Бегом приближался он к дому своей
матери... В кармане лежали ключ, предвещающий смерть, и яйцо,
которое может спасти его от смертного дня... Яйцо с датой и
ключ с маленькой золотой головкой. Мать была дома одна, ближе к
вечеру она любила немного подремать и выглядела заспанной.
- Дай мне, пожалуйста, очки, - обратилась она к сыну, - и
позволь я прочту тебе те самые подробности о хазарском
кладбище. Слушай, что пишет д-р Сук о хазарах из Челарева:
"Они лежат в семейных гробницах, в беспорядке разбросанных
по берегу Дуная, но в каждой могиле головы повернуты в сторону
Иерусалима. Они лежат в двойных ямах вместе со своими конями,
так что закрытые глаза человека и лошади смотрят в
противоположные стороны света; лежат со своими женами, которые
свернулись клубком на их животах, но так, что усопшим видны не
их лица, а бедра. Иногда их хоронят в вертикальном положении, и
они очень плохо сохраняются. Наполовину разложившиеся от
постоянного стремления к небу, они охраняют черепки, на которых
выцарапано имя "Иегуда" или слово "шахор" - "черное". По углам
гробниц - следы костров, в ногах у них- пища, на поясе - нож.
Рядом - останки разных животных, в одной могиле овцы, в другой
коровы или козы, а там курицы, свиньи или олени, в детских
могилах - яйца. Иногда рядом с покойными лежат их орудия -
серпы, клещи, ювелирные инструменты. Их глаза, уши и рты, как
крышками, прикрыты кусочками черепицы с изображением
семиконечного еврейского подсвечника, причем эта черепица
римского происхождения, III или IV века, а рисунки на ней VII,
VIII или IX века. Рисунки подсвечника (меноры) и других
еврейских символов выцарапаны на черепице заостренными
инструментами очень небрежно, как будто в большой спешке, а
может быть, и тайком, кажется, будто они не осмеливались
изображать их красиво. Возможно также, что они не помнят как
следует тех предметов, которые изображают, как будто они
никогда не видели подсвечник, совок для пепла, лимон, бараний
рог или пальму, а изображают их по чужому описанию. Эти
украшенные изображениями крышки для глаз, ртов и ушей должны
препятствовать демонам проникнуть в их могилы, но эти куски
черепицы разбросаны по всему кладбищу, будто какая-то могучая
сила - прилив земного притяжения - сорвала их со своих мест и
разбросала, так что ни один теперь не лежит на том месте, где
был положен охранять от демонов. Можно далее предположить, что
какая-то неизвестная, страшная и спешная необходимость,
возникшая позже, перенесла сюда эти крышки для глаз, ушей и
ртов из других гробниц, открывая дорогу одним демонам и
закрывая ее перед другими..."
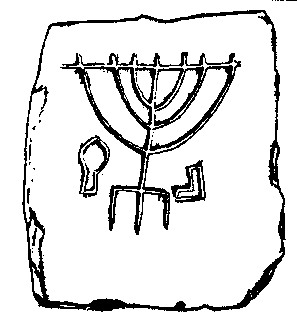 В этот момент все звонки на двери начали звонить и в дом
ворвались гости, Джельсомина Мохоровичич вошла в вызывающих
сапожках с прекрасными, неподвижными глазами, будто сделанными
из драгоценных камней. Мать профессора Сука в присутствии всех
гостей вручила ей виолончель, поцеловала ее между глаз, оставив
на месте поцелуя еще один глаз, нарисованный губной помадой, и
сказала:
- Как ты думаешь, Джельсомина, от кого этот подарок?
Отгадай! От профессора Сука! Ты должна написать ему хорошее
письмо и поблагодарить его. Он молодой и красивый господин. И я
всегда берегу для него самое лучшее место во главе стола!
Углубленная в свои мысли, тяжелая тень которых могла бы
отдавить ногу, как сапог, госпожа Сук рассадила своих гостей за
столом, оставив почетное место пустым, как будто она все еще
ожидает самого важного гостя, и рассеянно и торопливо посадила
д-ра Сука рядом с Джельсоминой и остальной молодежью возле
хорошо политого фикуса, который у них за спиной потел и
слезился листьями так, что было слышно, как капли падают на
пол.
В тот вечер за столом Джельсомина повернулась к д-ру Суку,
дотронулась до его руки своим горячим пальчиком и сказала:
- Поступки в человеческой жизни похожи на еду, а мысли и
чувства - на приправы. Плохо придется тому, кто посолит черешню
или уксусом польет пирожное...
Пока Джельсомина произносила эти слова, д-р Сук резал хлеб
и думал о том, что она одних лет с ним и других - с остальным
миром.
Когда после ужина профессор Сук вернулся в свою комнату в
гостинице, он вытащил из кармана ключ, достал лупу и принялся
изучать его. На золотой монете, которая служила головкой, он
прочитал еврейскую букву "X"...
...Д-р Сук заснул на рассвете с мыслями о том, что никогда
не узнает, что сказала ему в тот вечер Джельсомина. К ее голосу
он был совершенно глух.
В этот момент все звонки на двери начали звонить и в дом
ворвались гости, Джельсомина Мохоровичич вошла в вызывающих
сапожках с прекрасными, неподвижными глазами, будто сделанными
из драгоценных камней. Мать профессора Сука в присутствии всех
гостей вручила ей виолончель, поцеловала ее между глаз, оставив
на месте поцелуя еще один глаз, нарисованный губной помадой, и
сказала:
- Как ты думаешь, Джельсомина, от кого этот подарок?
Отгадай! От профессора Сука! Ты должна написать ему хорошее
письмо и поблагодарить его. Он молодой и красивый господин. И я
всегда берегу для него самое лучшее место во главе стола!
Углубленная в свои мысли, тяжелая тень которых могла бы
отдавить ногу, как сапог, госпожа Сук рассадила своих гостей за
столом, оставив почетное место пустым, как будто она все еще
ожидает самого важного гостя, и рассеянно и торопливо посадила
д-ра Сука рядом с Джельсоминой и остальной молодежью возле
хорошо политого фикуса, который у них за спиной потел и
слезился листьями так, что было слышно, как капли падают на
пол.
В тот вечер за столом Джельсомина повернулась к д-ру Суку,
дотронулась до его руки своим горячим пальчиком и сказала:
- Поступки в человеческой жизни похожи на еду, а мысли и
чувства - на приправы. Плохо придется тому, кто посолит черешню
или уксусом польет пирожное...
Пока Джельсомина произносила эти слова, д-р Сук резал хлеб
и думал о том, что она одних лет с ним и других - с остальным
миром.
Когда после ужина профессор Сук вернулся в свою комнату в
гостинице, он вытащил из кармана ключ, достал лупу и принялся
изучать его. На золотой монете, которая служила головкой, он
прочитал еврейскую букву "X"...
...Д-р Сук заснул на рассвете с мыслями о том, что никогда
не узнает, что сказала ему в тот вечер Джельсомина. К ее голосу
он был совершенно глух.
Исламские источники о хазарском вопросе
ЯБИР ИБН АКШАНИ (XVII век) - по мнению лютнистов из
Анатолии, некоторое время это имя носил шайтан, и под этим
именем он явился одному из самых известных музыкантов XVII века
- Юсуфу Масуди**. Ибн Акшани и сам был исключительно искусным
музыкантом. Сохранилась его запись одной мелодии, по которой
ясно, что при игре он использовал более десяти пальцев. Он был
крупного сложения, не отбрасывал тени и носил на лице мелкие
глаза, как две полувысохшие лужицы. О своем понимании смерти он
не хотел говорить людям, но давал об этом понять косвенно,
рассказывая истории, советуя им, как толковать сны или как
добраться до понимания смерти с помощью ловцов снов. Ему
приписывают два изречения: 1) смерть - это однофамилец сна,
только фамилия эта нам неизвестна; 2) сон - это каждодневное
умирание, маленькое упражнение в смерти, которая ему сестра, но
не каждый брат в равной степени близок своей сестре. Однажды он
решил на деле показать людям, как действует смерть, и проделал
это, взяв для примера одного христианского военачальника, имя
которого дошло до нашего времени: его звали Аврам Бранкович*, и
воевал он в Валахии, где, как утверждал шайтан, каждый человек
рождается поэтом, живет вором и умирает вампиром...
Ябир Ибн Акшани некоторое время жил скитальцем. Вместе со
своим музыкальным инструментом, сделанным из панциря белой
черепахи, он бродил по селам Малой Азии, играл и гадал, пуская
в небо стрелы, воровал и выпрашивал по два сита муки каждую
неделю... Он как будто выжидал, когда придет его время.
Однажды, решив, что это время пришло, он потребовал от одного
крестьянина, у которого была рыжая корова, привести ее за плату
на определенное место и в определенный час. На этом месте уже
целый год не было слышно ни единого звука. Крестьянин
согласился, привел корову, и она проткнула Ибн Акшани рогами,
так что он упал замертво там, где стоял. Умер он легко и
быстро, будто заснул, и под ним в этот момент появилась тень,
может быть, только для того, чтобы встретить его тело. После
него осталась лютня из панциря белой черепахи, в тот же день
превратившаяся в черепаху, ожившую и уплывшую в Черное море.
Лютнисты верят, что, когда Ябир Ибн Акшани вернется в мир, его
черепаха опять станет музыкальным инструментом, который заменит
ему тень...
По другому преданию, Ябир Ибн Акшани вообще не умирал.
Однажды утром в 1699 году в Царьграде он бросил лист лавра в
лохань с водой и сунул голову в воду, чтобы вымыть свой чуб.
Его голова оставалась под водой несколько мгновений. Когда он
вынул голову из воды, вдохнул воздух и выпрямился, вокруг него
больше не было ни Царьграда, ни царства, в котором он умывался.
Он находился в стамбульском отеле высшей категории "Кингстон",
шел 1982 год от Псы, у него была жена, ребенок и паспорт
гражданина Бельгии, он говорил по-французски, и только на дне
раковины марки F. Primavesi & Son, Corrella, Cardiff лежал
мокрый лист лавра.
АТЕХ**** (начало IX века) - по исламскому преданию, при
дворе хазарского кагана жила его родственница, известная своей
красотой... Атех, кроме того, писала стихи, но достоверно
известно лишь одно ее изречение, которое звучит так: "Разница
между двумя "да" может быть большей, чем между "да" и "нет".
Все остальное ей только приписывается.
Считается, что в арабских переводах сохранилось многое из
ее стихов или текстов, созданных при ее участии. Особое
внимание исследователей истории хазар в период обращения этого
народа в новую религию привлекли стихи, посвященные хазарской
полемике. По некоторым оценкам это были любовные стихи,
использованные позже в качестве аргументов в вышеупомянутой
полемике, когда начала вестись хроника событий того времени.
Как бы то ни было, Атех участвовала в этой полемике с огромным
жаром и успешно противостояла и еврейскому, и христианскому ее
участникам, так что в конце концов она помогла представителю
ислама, Фараби Ибн Коре**, и вместе со своим властелином,
хазарским каганом, перешла в ислам. Грек, участвовавший в
полемике, почувствовав, что проигрывает, объединился с
еврейским посланцем, и они вместе решили выдать принцессу Атех
властителям двух адов - еврейскому Велиалу и христианскому
Сатане. Для того чтобы избежать такого конца, Атех решила
добровольно отправиться в третий ад, исламский, предаться в
руки Иблиса. Так как Иблис был не в состоянии полностью
изменить решение Велиала и Сатаны, он лишил Атех пола, осудил
ее забыть все свои стихи и свой язык, за исключением одного
слова - "ку"****, при этом он даровал ей вечную жизнь... Так
принцесса Атех осталась жить вечно и получила возможность снова
и снова бесчисленное количество раз возвращаться к любому
своему слову или любой мысли, никуда не торопясь, ибо вечность
притупила чувство того, что во времени происходит раньше, а что
позже. Но любовь ей была доступна только во сне. Так принцесса
Атех полностью посвятила себя секте ловцов снов - хазарских
священнослужителей, которые занимались созданием своего рода
земной версии той небесной иерархии, которая упоминается в
Священном писании. Атех и члены ее секты обладали способностью
направлять в чужие сны послания, свои или чужие мысли и даже
предметы. Принцесса Атех могла войти в сон человека моложе ее
на тысячу лет, любую вещь могла она послать тому, кто видел ее
во сне, столь же надежно, как и с гонцом на коне, которого
поили вином. Только намного, намного быстрее... Описывается
один такой поступок принцессы Атех. Однажды она взяла в рот
ключ от своей опочивальни и стала ждать, пока не услышала
музыку и слабый голос молодой женщины, который произнес
следующие слова:
- Поступки в человеческой жизни похожи на еду, а мысли и
чувства - на приправы. Плохо придется тому, кто посолит черешню
или польет уксусом пирожное...
Когда эти слова были произнесены, ключ исчез изо рта
принцессы, и она, как говорят, знала, что таким образом
произошла замена. Ключ попал к тому, кому были предназначены
слова, а слова в обмен на ключ достались принцессе Атех...
Даубманус *** утверждает, что в его время принцесса Атех
все еще была жива и один музыкант, игравший на лютне, в XVII
веке, турок из Анатолии по имени Масуди **, встретил ее и
разговаривал с ней. Этот человек учился искусству ловца снов и
обладал копией одной из арабских версий хазарской энциклопедии
или словаря, но в тот момент, когда он встретил принцессу Атех,
Масуди еще не прочел всех статей словаря, поэтому он не узнал
слово "ку", когда принцесса Атех произнесла его. Это слово из
хазарского словаря, и означает оно какой-то фрукт, и если бы
Масуди это понял, то он догадался бы, кто стоит перед ним, и
таким образом был бы избавлен от всех дальнейших усилий по
овладению желанным мастерством; несчастная принцесса могла
научить его охоте на сны гораздо лучше, чем любой словарь. Но
он не узнал принцессы и упустил свою самую главную добычу, не
понимая ее истинной цены. Поэтому, как рассказывает одна из
легенд, собственный верблюд плюнул Масуди прямо в глаза.
КАГАН**** - хазарский правитель, слово происходит от
татарского "хан", что означает "князь". По утверждению Ибн
Фадлана, хазары хоронили своих каганов под водой, в ручьях.
Каган всегда делил власть со своим соправителем, все
превосходство его заключалось в том, что его приветствовали
первым. Обычно каган был из старой, знатной, возможно турецкой,
семьи, а король, или бек, его соправитель, - из народа, то есть
хазар. Имеется одно свидетельство IX века (Якуби), которое
говорит, что уже в VI веке наряду с каганом существовал и его
представитель, халиф...
Соправители кагана обычно были прекрасными ратниками.
Однажды после какой-то победы они захватили у врага в качестве
трофея птицу - сыча,- который своими криками указывал на
источники питьевой воды. Тогда враги пришли жить вместе с ними.
И время начало течь слишком медленно...
...И однажды ночью, когда кони паслись при лунном свете,
кагану во сне явился ангел и сказал ему:
- Создателю дороги твои намерения, но не дела твои.
Тогда каган спросил ловца снов, что означает этот сон и в
чем причина хазарских бед. Ловец снов ответил, что грядет
великий человек и время равняется по нему. Каган на это
возразил: - Неправильно, это мы помельчали, отсюда и наши беды.
После этого он удалил от себя хазарских священнослужителей и
ловцов снов и приказал позвать одного еврея, одного араба и
одного грека, чтобы они объяснили его сон. Каган решил вместе
со своим народом принять веру того, чье объяснение будет
наиболее убедительным. Когда при дворе кагана шла полемика о
трех верах, он нашел наиболее вескими аргументы арабского
участника, Фараби Ибн Коры **, который, в частности, дал
понравившийся кагану ответ на его вопрос:
- Что освещает наши сны, которые мы видим в полной
темноте, за сомкнутыми веками? Воспоминание о свете, которого
больше нет, или же свет будущего, который мы, как обещание,
берем от завтрашнего дня, хотя еще не рассвело?
- В обоих случаях это несуществующий свет, - отвечал
Фараби Ибн Кора. - Поэтому безразлично, какой из ответов
правильный, и сам вопрос следует расценивать как
несуществующий.
Имя кагана, который вместе со своими подданными принял
ислам, не сохранилось. Известно, что он похоронен под знаком
нун (арабская буква, похожая на полумесяц). Другие источники
говорят, что имя его было Катиб - до того, как он разулся,
обмыл ноги и вошел в мечеть. Своего старого имени и обуви он не
нашел после того, как, окончив молиться, вышел из мечети на
солнечный свет.
КУ (Driopteria filix chazarica) - плод родом с побережья
Каспийского моря. Даубманус пишет о нем следующее: хазары
выращивают фруктовое дерево, плоды которого не вызревают нигде,
только у них. Эти плоды покрыты чем-то похожим на рыбью чешую
или на чешуйки шишки, растут они высоко на. .стволе и, свисая с
веток, напоминают рыбу, которую трактирщики подвешивают за
жабры у входа в свое заведение, чтобы уже издали было видно,
что здесь подают уху. Иногда эти плоды издают звуки, похожие на
пение зябликов. На вкус они холодные и немного соленые. Осенью,
когда плоды становятся совсем легкими и внутри у них, как
сердце, пульсирует косточка, они, падая с веток, некоторое
время летят, взмахивая жабрами, будто плывут по волнам ветра.
Мальчишки сбивают их рогатками, а иногда ястреб ошибется и.
унесет в клюве такой плод, уверенный, что это рыба. Поэтому у
хазар принято говорить: "Прожорливые арабы, как ястребы,
уверены, что мы рыба, но мы не рыба, мы - ку". Слово "ку" -
название этого плода - единственное слово хазарского языка,
которое шайтан оставил в памяти принцессы Атех****, после того
как она забыла свой язык.
Иногда по ночам слышатся крики: ку-ку! Это принцесса Атех
произносит единственное известное ей на родном языке слово и
плачет, пытаясь вспомнить свои забытые стихи.
МАСУДИ ЮСУФ (середина XVII века-25.1Х.1689)-известный
музыкант-лютнист, один из авторов этой книги. У Масуди была
одна из переписанных арабских версий "Хазарского словаря",
которую он дополнял сам, своей рукой, обмакивая перо в
эфиопский кофе...
Масуди был родом из Анатолии. Считается, что игре на лютне
его учила жена, причем она была левша и струны на инструменте
перебирала в обратном порядке. Доказано, однако, что манеру
игры, которая в XVII и XVIII веках была распространена среди
лютнистов из Анатолии, ввел в обиход именно он. Легенды
утверждают, что у него было поразительное чувство инструмента,
которое помогало ему оценить лютню прежде, чем он слышал ее
звук. Присутствие в доме ненастроенной лютни он тоже
чувствовал, оно вызывало у него приступы беспокойства, иногда
даже тошноту. Свой инструмент он настраивал по звездам. Он
знал, что левая рука музыканта со временем может забыть свое
ремесло, но правая никогда. Музыку он забросил очень рано, и в
связи с этим сохранилось одно предание...
Три ночи подряд он видел во сне, как один за другим
умирали его близкие. Сначала отец, потом жена, потом брат. А на
четвертую ночь ему приснилось, что умерла и его вторая жена,
женщина с глазами, которые на холоде меняли цвет, как цветы.
Глаза ее перед тем, как она их закрыла, были похожи на две
желтые зрелые виноградины, в глубине которых видны косточки.
Она лежала со свечой в пупке, подбородок ее был подвязан
волосами, чтобы она не смеялась. Масуди проснулся и больше
никогда в жизни не видел ни одного сна. Он был в ужасе. Второй
жены у него никогда не было. Он обратился к дервишу с вопросом,
что может означать такой сон. Тот открыл Книгу и прочитал ему:
"О сын мой дорогой! Не говори о своем сне твоим братьям!
Потому что они сговорятся против тебя!"
Неудовлетворенный таким ответом, Масуди спросил о значении
сна свою единственную жену, и она ему ответила:
- Не говори никому о своем сне! Ибо с тем, кому его
доверишь, свершится твой сон, а не с тобой.
Тогда Масуди решил разыскать какого-нибудь ловца снов,
когонибудь, кто мог бы знать это из своего личного опыта. Ему
объяснили, что ловцы снов теперь встречаются редко, гораздо
реже, чем раньше, что скорее их можно встретить, направившись
не на Запад, а на Восток, потому что корни их искусства и само
их происхождение ведут к племени хазар, которое некогда жило в
отрогах Кавказа, там, где растет черная трава.
Масуди взял лютню и отправился вдоль берега моря на
Восток. Он думал: "Человека нужно успеть обмануть прежде, чем
он пожелает тебе доброго утра, потом уже поздно". Так поспешил
он начать охоту на ловцов снов. Однажды ночью его разбудил
человек. Масуди увидел перед собой старика, борода которого
поседела только на концах, как колючки на спине у ежа. Человек
спросил Масуди, не видел ли он в своих снах женщину с глазами
цвета белого вина, пестрыми в глубине.
- Они меняют цвет на холоде, как цветы - добавил
незнакомец. Масуди сказал, что видел ее. - Что с ней? - Она
умерла. - Откуда ты знаешь?
- Она умерла в моем сне, у меня на глазах, она была во сне
моей второй женой. Она лежала со свечой в пупке, подвязанная
волосами. Тогда старик зарыдал и сказал надломленным голосом: -
Умерла! А я за ней шел сюда от самой Басры. Ее призрак
переселяется из сна в сон, и я бреду за ней, иду по следу тех,
кому она снится вот уже три года.
Тут Масуди понял, что перед ним тот человек, которого он
ищет. - Может быть, вы ловец снов, раз вы могли столько пройти
за этой женщиной?
- Я ловец снов? - изумился старик. - И это говорите вы?
Это вы ловец снов, а я лишь обычный любитель вашего искусства.
Образы, блуждающие из сна в сон, могут умереть только во снах
того, кто родился ловцом снов. Вы, ловцы снов, вы - кладбища, а
не мы. Она прошла тысячи миль для того, чтобы умереть в вашем
сне. Только вы больше не сможете видеть сны. Теперь
единственное, что вы можете, - это начать свою охоту. Но не за
женщиной с глазами цвета белого вина. Она мертва и для вас, и
для других. Вам нужно гнать другого зверя.
Так Масуди получил от старика первые сведения о своем
новом занятии и узнал все, что можно узнать о ловцах снов. Если
человек располагает надежными письменными и устными
источниками, говорил старик, он может довольно хорошо освоить
это искусство... Самыми лучшими ловцами снов были хазары, но
хазар давно нет. Сохранилось лишь их искусство и частично их
словарь, который об этом искусстве рассказывает. Они могли
следить за образами, появляющимися в чужих снах, гнать их, как
зверя, от человека к человеку и даже через сны животных или
демонов... - Как это достигается? - спросил Масуди. - Вы,
конечно, замечали, что человек, прежде чем заснуть, в момент
между явью и сном, совершенно особым образом регулирует свое
отношение к силе земного притяжения. Его мысли освобождаются
тогда от притягательности земли в прямой зависимости от силы, с
которой земное притяжение действует на его тело. В такие
мгновения перегородка между мыслями и миром становится
пористой, она пропускает человеческие мысли на свободу подобно
тройным ситам. В этот краткий миг, когда холод так легко
проникает в человеческое тело, мысли человека, бурля,
вырываются из него, и их можно прочитать без большого труда.
Тот, кто обратит внимание на засыпающего, сможет и без
специальных упражнений понять, что он думает в этот момент и к
кому его мысли обращены. А если вы упорными упражнениями
овладеете искусством наблюдения за человеческой душой в тот
момент, когда она открыта, вы сможете продлевать время
наблюдения все дольше и проникать все глубже, в сам сон, вы
сможете охотиться в нем, как под водой с открытыми глазами. Так
становятся ловцами снов.
Эти исповедники спящих, как называли их хазары, аккуратно
записывали свои наблюдения, так же как делают это астрономы или
астрологи, читающие судьбу по Солнцу и звездам. По приказу
принцессы Атех, покровительницы ловцов снов, все, что связано с
этим искусством, вместе с жизнеописаниями наиболее выдающихся
ловцов и житиями пойманной добычи, было собрано и сведено в
одно целое, своего рода хазарскую энциклопедию, или словарь.
Этот хазарский словарь ловцы снов передавали из поколения в
поколение, и каждый должен был его дополнять. С этой целью
много веков назад в Басре была основана специальная школа,
"братство чистых", или же "друзей верности", - секта, которая
сохранила в тайне имена своих членов, но издала "Календарь
философов" и "Хазарскую энциклопедию", однако эти книги были
сожжены по приказу халифа Мостанджи вместе с книгами исламского
отделения этой школы и сочинениями Авиценны. Таким образом,
первоначальная версия хазарского словаря, созданная при
принцессе Атех, не сохранилась, тот текст словаря, который есть
у меня, это лишь арабский перевод, и это единственное, что я
могу тебе дать. Так что возьми его, но знай, что ты должен
хорошо выучить все его статьи, потому что, если ты не будешь
как следует знать словарь своего искусства, может случиться
так, что ты упустишь свою самую главную добычу. Итак, знай: при
охоте на сны слова хазарского словаря - это то же, что следы
льва на песке перед обычным охотником.
Так говорил старик, и вместе со словарем он дал Масуди под
конец и один совет:
- Бренчать на струнах может каждый, а ловцом снов может
стать только избранник, тот, кому это даровало небо. Оставьте
свой инструмент! Ведь лютню выдумал еврей по имени Ламко.
Бросьте ее и отправляйтесь охотиться! Если ваша добыча не умрет
в чужом сне, как это случилось с моей, она приведет вас к цели!
- А какова цель охоты на сны? - спросил Масуди.
- Цель ловца снов понять, что любое пробуждение - это лишь
ступень в процессе освобождения от сна. Тот, кто поймет, что
его день - это всего лишь чужая ночь, что два его глаза - это
то же самое, что чей-то один, тот будет стремиться к настоящему
дню, дню, который принесет истинное пробуждение из собственной
яви, когда все становится гораздо более явственным, чем наяву.
И тогда человек наконец увидит, что он одноглаз по сравнению с
теми, у кого два глаза, и что он слеп по сравнению с теми, у
кого открыты глаза...
А когда наступил месяц раби-аль-ахир и третья джума в нем,
Масуди впервые заглянул в чужие сны. Он заночевал на постоялом
дворе рядом с человеком, лица которого не было видно, но слышно
было, как он напевает какую-то мелодию. Масуди в первый момент
не понял, в чем дело, но слух его был быстрее мыслей. Имелся
женский ключ с отверстием вдоль оси, полый внутри, который
искал мужскую замочную скважину с осью внутри. И он нашел ее.
Лежавший с ним рядом в темноте человек вообще-то не пел, пел
кто-то в этом человеке, кто-то, кого этот человек видел во
сне... Стояла тишина, так что было слышно, как у певца,
лежащего рядом с Масуди в темноте, цветут волосы. И тогда
легко, как в зеркало, Масуди вошел в огромный сон, засыпанный
песком, не защищенный от дождя и ветра, населенный дикими
собаками и мечтающими о воде верблюдами. Он сразу почувствовал,
что ему грозит опасность остаться калекой, и грозила она ему со
спины. Все же он зашагал по песку, который поднимался и
опускался в ритме дыхания спящего, В одном из углов сна сидел
человек и мастерил лютню из дерева, которое до этого лежало в
ручье, корнями к устью. Сейчас оно было сухим, и Масуди понял,
что человек делает инструмент тем способом, который был
известен 300 лет назад. Значит, сон был старее того, кто его
видел. Время от времени человек из сна прерывал работу и брал в
рот горсть плова, каждый раз удаляясь от Масуди по меньшей мере
на сотню шагов. Благодаря этому Масуди увидел сон до самого его
дна, там было мало света, испускавшего неописуемый смрад. В
глубине виднелось какое-то кладбище, где два человека хоронили
коня. Одним из них был тот, кто пел. Но сейчас Масуди не только
слышал песню, но и увидел вдруг певца. Во сне спящего рядом
человека возник какой-то юноша, один его ус был седым. Масуди
знал, что сербские псы сначала кусают, потом лают, валахские
кусают молча, а турецкие сначала гавкают, а потом кусают. Этот,
из сна, не относился ни к одной из этих пород. Масуди запомнил
его песню, и завтра ему надо было поймать следующего, кого во
сне навещает тот же самый юноша с седым усом. Масуди сразу
придумал, как это сделать. Он собрал несколько лютнистов и
певцов - компанию охотников для облавы - и научил их петь и
играть под своим управлением. У него на пальцах были перстни
разных цветов, и каждый цвет соответствовал десятиступенчатой
лестнице звуков, которой он пользовался. Масуди показывал
певцам тот или другой палец и по цвету перстня, который
требовал своего тона, так же как каждый род зверей выбирает
только свой род пищи, они знали, какой тон брать, и никогда не
ошибались, хотя мелодия была им незнакома. Они пели в местах,
где собирался народ-перед мечетями, на площадях, возле
колодцев, - и мелодия становилась живой приманкой для прохожих,
которые по ночам обладали той добычей, которую искал Масуди.
Такие застывали на месте, будто увидели лунный свет, льющийся с
Солнца, и слушали как зачарованные.
Выслеживая свою добычу, Масуди шел из города в город вдоль
берега Черного моря. Он начал подмечать особенности тех, кто
видит сон, ставший его целью. Там, где число людей, которых во
сне навещает седоусый юноша, увеличивалось, он отмечал
удивительные вещи: глаголы в речи приобретали более важную
роль, чем существительные, которые вообще выбрасывались при
малейшей возможности. Иногда юноша появлялся во снах целых
групп людей. Армянские купцы видели его под виселицей,
установленной на повозке, запряженной волами. Он ехал так через
прекрасный каменный город, и палач выщипывал ему бороду. Видели
его потом и солдаты, он хоронил коней на хорошо ухоженном
кладбище над морем, видели его с женщиной, лицо которой
невозможно было разглядеть во сне, виднелись только те места,
величиной с зерно, где седоусый оставил следы поцелуя на ее
щеке... А потом вдруг добыча исчезла из виду, и Масуди потерял
всякий след. Единственное, что он мог сделать,- это внести в
свой "Хазарский словарь" все, замеченное им во время этого
путешествия, и его записи, и старые, и новые, распределенные по
алфавиту, путешествовали вместе с ним в зеленом мешке, который
становился все тяжелее и тяжелее. У Масуди, однако, было
чувство, что от него ускользают сны, которые снятся кому-то,
кто был совсем рядом, что он не успевает их схватить и
определить, чьи они. Число снов было большим, чем число спящих.
Тогда Масуди обратил наконец внимание на своего верблюда.
Окунувшись в сон животного, он увидел юношу с шишковатым лбом и
с необычными разноцветными усами, которые, казалось, были даны
ему в наказание. Над ним светило созвездие, которое никогда не
отражалось в море. Он стоял у окна и читал книгу, брошенную на
пол к его ногам. Называлась книга "Liber Cosri", и Масуди не
знал, что значат эти слова, пока с закрытыми глазами смотрел
сон верблюда. К тому времени погоня привела его к бывшей
хазарской границе. В полях росла черная трава.
Масуди встречалось все больше людей, которые впускали на
ночлег в свои сны юношу с книгой "Liber Cosri". Он понял, что
иногда целые поколения или даже слои общества видят одни и те
же сны и в них одних и тех же лиц. Но понял он и то, что такие
сны постепенно вырождаются и исчезают и что они чаще
встречались в прошлом. От этих снов люди старели. Здесь, на
границе, однако, в своей погоне он столкнулся с чем-то
совершенно новым, А именно - Масуди давно заметил, что юноша с
седым усом каждому, к кому приходит в сон, дает в долг по одной
мелкой серебряной монете. Причем на очень выгодных условиях,
всего под один процент в год. И эти одолженные во сне суммы
зачастую воспринимались здесь, на задворках Малой Азии, как
гарантийные письма, потому что считалось, что видящие
сновидения не могут обмануть один другого, пока в их жизни
присутствует тот, кого они видят во снах и кто держит в своих
руках все долговые книги и счета. Таким образом, существовало
что-то вроде хорошо поставленной двойной бухгалтерии, которая
охватывала и объединяла капитал яви и сна и которая
основывалась на общем молчаливом согласии участников сделки...
И вот наступил месяц джумада-аль-авваль и вторая джума в
нем. Под покровом речного тумана на берегу лежал в песке новый
город, голый и теплый. Его не было видно из-за тумана над
водой, но в воде под туманом отражался каждый его минарет,
вонзенный в быстрину. А за туманом, на суше, лежала тишина,
глубокая, трехдневная, и Масуди почувствовал, что от этой
тишины, от этого города и от жаждущей воды в нем зарождается
мужское желание. В тот день он желал женского хлеба. Один из
загонщиков, которых он послал в город петь, вернулся и сообщил
ему, что они кое-что нашли. На этот раз - женщину.
- Иди по главной улице до тех пор, пока не почувствуешь
запах имбиря. По этому запаху ты узнаешь, где ее дом, потому
что она кладет имбирь в любую еду.
Масуди шел по городу и остановился, лишь почувствовал
запах имбиря. Женщина сидела перед костром, на котором стоял
чугунок, на поверхности супа лопались пузыри. Дети с посудой и
собаки выстроились в очередь и ждали. Из чугунка она половником
разливала суп детям и собакам, и Масуди понял, что она
разливает сны. Ее губы меняли цвет... и когда Масуди
приблизился, она и ему предложила налить в миску, но он с
улыбкой отказался. - Я не могу больше видеть сны,- сказал он, и
она отставила чугунок.
Она была похожа на цаплю, которая во сне видит себя
женщиной. Масуди с ногтями изгнившими и изглоданными, с
угасшими глазами лег на землю возле нее. Они были одни, было
слышно, как дикие осы точат свои жала о сухую кору деревьев. Он
хотел поцеловать женщину, но ее лицо вдруг совершенно
изменилось. Его поцелуй приняла совсем другая щека. Он спросил,
что случилось, она сказала:
- Ах, это дни. Не обращай внимания, на моем лице они
сменяются в десятки раз быстрее, чем на твоем или на морде
твоего верблюда. Но ты напрасно хлопочешь под моим плащом, там
нет того, что ты ищешь, У меня нет черной галки. Существуют
души без тела, евреи их называют дибуки, а христиане - кабалы,
но существуют и тела без пола. У душ нет пола, но тела должны
его иметь. Пола нет только у тех тел, у которых его отняли
демоны. Так случилось и со мной. Шайтан по имени Ибн Хадраш***
отнял у меня пол, но пощадил мою жизнь. Одним словом, теперь
мой любовник только Коэн***.
- Кто этот Коэн? - спросил Масуди.
- Еврей, которого я вижу во снах и которого ты
преследуешь. Юноша с седым усом. Его тело спрятано в трех
душах, а моя душа спрятана в мясо, и я могу поделиться ею
только с ним, когда он приходит в мои сны. Он искусный
любовник, и я не жалуюсь. К тому же он единственный, кто еще
помнит меня, кроме него никто больше не приходит в мои сны...
Так Масуди впервые встретился с тем, кто знал имя того,
кого он преследует. Имя юноши было Коэн.
- Откуда ты это знаешь? - решил проверить Масуди. - Я
слышала. Кто-то его окликнул, и он отозвался на это имя. - Во
сне?
- Во сне. Это было в ту ночь, когда он отправился в
Царьград. Только имей в виду: Царьград в наших мыслях всегда на
сотню поприщ западнее настоящего Царьграда.
Потом женщина достала из-за пазухи что-то вроде плода,
похожего на небольшую рыбу, протянула это Масуди и сказала: -
Это ку *. Хочешь его попробовать? Или ты хочешь чего-то
другого? - Я бы хотел, чтобы ты здесь сейчас увидела во сне
Коэна,- сказал Масуди, и женщина заметила с удивлением:
- Твои желания скромны. Слишком скромны, имея в виду
обстоятельства, которые привели тебя ко мне, но, судя по всему,
ты этого не сознаешь. Я исполню твое желание; сон этот я буду
смотреть специально для тебя, и я заранее дарю его тебе. Но
берегись - женщина, которая преследует того, кто тебе снится,
доберется и до тебя.
Она опустила голову на собаку, ее лицо и руки были
исцарапаны многочисленными взглядами, которые веками касались
ее, и приняла в свой сон Коэна, произнесшего: Intentio tua
grata et accepta est Creatori, sed opera tua non sunt
accepta...
Скитания Масуди были окончены, от этой женщины он узнал
больше, чем за время всех поисков, теперь он спешил, как
дерево, распускающее почки. Он оседлал верблюда и устремился в
обратный путь, в сторону Царьграда. Добыча ждала его в столице.
И тут, пока Масуди взвешивал, насколько удачна была последняя
охота, его собственный верблюд обернулся и плюнул ему прямо в
глаза. Масуди бил его мокрой уздечкой по морде до тех пор, пока
тот не выпустил всю воду из обоих горбов, но так и не смог
разгадать, что значил этот поступок верблюда.
Дорога липла к его обуви, он шагал, твердя слова Коэна,
словно музыкальную фразу, потому что не понимал их, и думал о
том, что нужно вымыть обувь на первом же постоялом дворе,
потому что дороги требовали от прошагавших по ним за день
подошв вернуть обратно на место налипшую на них грязь.
Один христианский монах, который, кроме греческого, не
знал никакого другого языка, сказал Масуди, что слова, которые
он запомнил, - латинские, и посоветовал ему обратиться к
местному раввину. Тот перевел ему фразу Коэна: "Создателю
дороги твои намерения, но не дела твои!"
Так Масуди понял, что желания его осуществляются и что он
на верном пути. Фразу эту он узнал. Он давно знал ее
по-арабски, потому что это были слова, которые ангел сказал
хазарскому кагану несколько сот лет назад. Масуди уже
догадался, что Коэн - один из тех двоих, кого он ищет, ибо Коэн
гнался за хазарами по еврейским преданиям так же, как Масуди по
исламским. Коэн был тот человек, которого Масуди предсказал,
бодрствуя над своим хазарским словарем. Словарь и сны
складывались в одно естественное целое...
Была первая джума эртеси в месяце садаре, и Масуди думал
так, как опадают листья, его мысли одна за другой отделялись от
своих веток и падали; он следил за ними, пока они кружились
перед ним, а потом они падали на дно своей осени навсегда. Он
расплатился и распрощался со своими лютнистами и певцами и
сидел один, закрыв глаза и прислонившись спиной к стволу
пальмы, сапоги напекли ему ступни, и между собой и ветром он
чувствовал только ледяной и горький пот. Он макал в этот пот
крутое яйцо и так его солил. Наступающая суббота была для него
такой же великой, как страстная пятница, и он ясно чувствовал
все, что должен был сделать. О Коэне было известно, что он идет
в Царьград. Поэтому его не нужно было больше преследовать и
ловить на всех входах и выходах чужих снов, в которых Масуди
колотили, принуждали и унижали, как скотину. Более важным и
трудным вопросом было, как отыскать Коэна в Царьграде, городе
всех городов. Впрочем, искать его и не придется, вместо Масуди
это сделает кто-нибудь другой. Нужно только найти того, кого
Коэн видит во сне. А этим третьим - если хорошенько подумать-
мог быть только один-единственный человек. Тот самый, о котором
Масуди уже кое-что предугадывал.
"Так же как запах липового меда в чае из лепестков розы
мешает прочувствовать истинный запах чая, так и мне что-то
мешает ясно разглядеть и понять сны о Коэне людей, окружающих
меня", - размышлял Масуди. Там есть еще кто-то, кто-то третий,
кто мешает...
Масуди уже давно предполагал, что кроме него на свете есть
по крайней мере еще двое, кто занимается хазарским племенем:
один Коэн - по еврейским источникам об обращении хазар, а
третий, пока неизвестный, - несомненно, по христианским
источникам, описывавшим эти же самые события. И сейчас нужно
было найти этого третьего, какого-то грека или другого
христианина, ученого человека, интересующегося хазарскими
делами. Это, конечно же, будет тот, кого ищет в Царьграде и сам
Коэн. Нужно искать этого третьего. И Масуди вдруг стало ясно,
как это нужно делать. Но когда он уже хотел встать, потому что
все было продумано, он почувствовал, что опять попал в чей-то
сон, что опять, на этот раз не по своей воле, охотится. Вокруг
не было ни людей, ни животных. Лишь песок, безводное
пространство, распростершееся, как небо, и за ним - город
городов. Во сне же ревела большая, мощная вода, глубокая,
доходящая до самого сердца, сладкая и смертоносная, и Масуди
она запомнилась по реву, который проникал во все складки его
тюрбана, закрученного так, чтобы походить на одно слово из
пятой суры Книги пророка. Масуди было ясно, что время года во
сне отличается от того, что наяву. И он понял, что это был сон
пальмы, на которую он опирался. Она видела во сне воду. Ничего
больше во сне не случилось. Только шум реки, закрученный умело,
как белейший тюрбан... Он вошел в Царьград в засуху в конце
месяца шаабана и на главном базаре предложил для продажи один
из свитков "Хазарского словаря". Единственный, кто
заинтересовался этим товаром, был монах греческой церкви по
имени Теоктист Никольски, он и отвел его к своему хозяину. А
тот, не спрашивая о цене, взял предложенное и спросил, нет ли
чего-нибудь еще. Из этого Масуди сделал вывод, что он у цели,
что перед ним искомый третий, тот, кого видит во снах Коэн и
кто послужит ему приманкой для Коэна. Коэн, конечно же, изза
него прибыл в Царьград. Богатый покупатель хазарского свитка из
мешка Масуди служил дипломатом в Царьграде, он работал на
английского посланника в Великой Порте, и звали его Аврам
Бранкович *. Он был христианин, родом из Трансильвании, рослый
и роскошно одетый. Масуди предложил ему свои услуги и был
принят на службу. Поскольку Аврам-эфенди работал в своей
библиотеке ночью, а спал днем, его слуга Масуди уже в первое
утро улучил возможность заглянуть в сон своего хозяина. Во сне
Аврама Бранковича Коэн ехал верхом то на верблюде, то на коне,
говорил поиспански и приближался к Царьграду. Впервые кто-то
видел Коэна во сне днем. Было очевидно, что Бранкович и Коэн по
очереди снятся друг другу. Так круг замкнулся, и пришел час
развязки.
Вот и все, но Масуди и этого было достаточно. Остальное -
дело времени и ожидания, подумал он и начал тратить время.
Прежде всего он стал забывать музыку, первое свое ремесло. Он
забывал не песню за песней, а часть за частью этих песен:
сначала из его памяти исчезли нижние тона, и волна забвения,
как прилив, поднималась все выше и выше, к самым высоким
звукам, исчезала вся ткань песен, и в конце концов в памяти
Масуди остался только ритм, словно их скелет. Потом он начал
забывать и свой хазарский словарь, слово за словом, и ему
совсем не было грустно, когда как-то вечером один из слуг
Бранковича бросил его в огонь...
Но тогда произошло нечто непредвиденное. Как дятел,
который умеет летать и хвостом вперед, Аврам-эфенди с
наступлением последней джумы в месяце шаввале вдруг покинул
Царьград. Он бросил дипломатическую службу и со всей своей
свитой и слугами отправился воевать на Дунай. Там, в местечке
Кладово, в 1689 году от Исы они оказались в месте расположения
австрийского лагеря принца Баденского, и Бранкович поступил к
нему на службу. Масуди не знал, что ему думать и что делать,
потому что его еврей направлялся в Царьград, а не в Кладово, и
планы Масуди все больше расходились с ходом событий. Он сидел
на берегу Дуная и аккуратно закручивал тюрбан. И тогда он
услышал рев реки. Вода бурлила глубоко под ним, но ее рык был
ему знаком, он полностью укладывался в складки тюрбана, которые
походили на одно слово из пятой суры Корана. Это была та же
вода, которую видела во сне пальма в песках вблизи Царьграда
несколько месяцев назад, и по этому знаку.
Масуди понял, что все в порядке и что его путь
действительно окончится на Дунае. Он оставался на месте и
целыми днями в окопе играл в кости с одним из писарей
Бранковича. Этот писарь все проигрывал и проигрывал и, надеясь
вернуть проигранное, никак не хотел прерывать эту безумную игру
даже тогда, когда турецкие пули и снаряды буквально засыпали их
окоп. Масуди тоже не хотел искать более безопасное место,
потому что у него за спиной был Бранкович, которому опять
снился Коэн. Коэн скакал верхом через рев какой-то реки, что
протекала через сон Бранковича, и Масуди знал, что это рев того
самого Дуная, который можно было слышать и наяву. Потом ветер
швырнул в него горсть земли, и он почувствовал, что сейчас все
сбудется. Когда один из них бросал кости, на их позицию
прорвался отряд турок, неся за собой запах мочи, и пока янычары
кололи и рубили налево и направо, Масуди взволнованно искал
глазами среди них юношу с одним седым усом. И он его увидел,
Масуди увидел Коэна таким, каким он преследовал его в чужих
снах, - рыжеволосого, с узкой улыбкой под серебряным усом, с
мешком на плече и цепочкой мелких шагов за спиной. Тут турки
зарубили писаря, проткнули копьем Аврама Бранковича, который
так и не успел проснуться, и бросились к Масуди. Спас его Коэн.
Увидев Бранковича, Коэн упал как подкошенный, и вокруг
рассыпались бумаги из его мешка. Масуди сразу понял, что Коэн
впал в глубочайший сон, из которого не будет пробуждения.
- Что это, погиб толмач? - спросил турецкий паша у своих
приближенных почти с радостью, а Масуди ответил ему по-арабски:
- Нет, он заснул, - и тем самым продлил свою жизнь на один
день, так как паша, удивленный таким ответом, спросил, откуда
это известно, а Масуди отвечал, что он тот, кто связывает и
развязывает узел чужих сновидений, по роду занятий - ловец
снов, что он давно уже следит за посредником, своего рода
приманкой для истинной добычи, который теперь умирает,
пронзенный копьем, и попросил оставить его в живых до утра,
чтобы проследить за сном Коэна, потому что тот сейчас видит во
сне смерть Бранковича.
- Оставьте его жить, пока этот не проснется, - сказал
паша, и турки взвалили спящего Коэна на плечи Масуди, и он
пошел с ними на турецкую сторону, неся свою желанную добычу.
Коэн, которого он нес, действительно все это время видел во сне
Бранковича, и Масуди казалось, что он несет не одного, а двоих.
Юноша у него на плечах видел во сне Аврама-эфенди, как и
обычно, когда тот бодрствовал, потому что его сон все еще был
явью Бранковича. А Бранкович если когда и был в яви, то это
было именно сейчас, когда его проткнули копьем, потому что в
смерти нет сна...
Масуди провел этот день и ночь, следя за снами Коэна, как
за созвездиями на небе своих челюстей. И, говорят, он видел
смерть Бранковича так, как видел ее сам Бранкович. От этого он
очнулся с поседевшими ресницами и подрагивающими ушами, кроме
того, у него выросли огромные смердящие ногти. Он так быстро
думал о чемто, что не заметил человека, который рассек его
надвое саблей с одного-единственного взмаха, так что пояс упал
с него не размотавшись. Сабля оставила змеящийся след, и
раскрылась страшная, извилистая рана, как рот, произносящий
какое-то неясное слово, вопль мяса... Оправдала ли себя эта
страшная смерть Масуди и что он доверил паше перед казнью,
никто не знает. Перешел ли он через Сират-мост, тонкий, как
волос, и острый, как сабля, ведущий над адом прямо в рай, знают
только те, которые больше не говорят...
Д-р АБУ КАБИР МУАВИЯ (1930-1982) - арабский специалист по
ивриту, профессор Каирского университета. Занимался
сравнительным изучением религий Ближнего Востока. Закончил
университет в Иерусалиме, защитил в США докторскую диссертацию
на тему "Древнееврейская философия в Испании XI века и учение
калама". Он был рослым, плечистым человеком, с такой широкой
спиной, что локтем не мог дотянуться до другого локтя, знал
наизусть большинство песен Иуды Халеви*** и считал, что
"Хазарский словарь", изданный Даубманусом *** в 1691 году, все
еще можно отыскать где-нибудь в старой книжной лавке. Чтобы
найти подтверждение этой уверенности, он восстановил события,
связанные с распространением этой книги, начиная с XVII века,
сделал точный перечень всех уничтоженных экземпляров и всех тех
немногочисленных, которые имели хождение, и пришел к выводу,
что минимум два экземпляра этого считающегося исчезнувшим
издания должны еще существовать, Ему ни разу не удалось напасть
на их след, но, несмотря на это, он продолжал тщательнейшие
поиски. Когда он, находясь в состоянии исключительного
творческого подъема, опубликовал трехтысячную библиографическую
единицу, началась израильско-египетская война 1967 года. В
качестве офицера египетской армии он участвовал в боевых
действиях, был ранен и оказался в плену. Армейские документы
свидетельствуют о тяжелых ранениях головы и тела, результатом
которых явилось половое бессилие. Когда он вернулся на родину,
голова его была обвязана смущенными улыбками, которые
волочились за ним, как шарф. В какой-то гостинице он скинул с
себя военную форму и в первый раз увидел свои увечья в медном
зеркале. Они пахли пометом синицы, и он понял, что никогда
больше не сможет лечь с женщиной. Медленно одеваясь, он думал
так: "Я был более тридцати лет поваром, и день за днем я
готовил и, наконец, приготовил то блюдо, каким я стал; я сам
был пекарем и тестом, я сам из себя замесил такой хлеб, какой
хотел, а потом вдруг появился другой повар, со своим ножом и в
мгновение ока сделал из меня совершенно другое, незнакомое мне
блюдо. Теперь я божья сестра - я тот, кто не существует!"
И он не вернулся больше к своей семье в Каир, не вернулся
и к своей работе в университете. Он поселился в пустом доме
своего отца в Александрии, жил торопливо и следил за тем, как
белые пузырьки воздуха из-под его ногтей поднимаются к миру,
подобно пузырькам воздуха из жабр рыбы. Он хоронил свои волосы,
носил бедуинские сандалии, оставляя за собой след в форме
копыта, и однажды ночью под дождем, крупным, как воловьи глаза,
увидел свой последний сон...
В его ночах время, как и время у хазар, текло от конца к
началу жизни и все истекло. С тех пор он больше не видел снов.
Он был чист. И готов к новой жизни. Тогда он начал каждый вечер
посещать "Корчму у суки"....
В "Корчме у суки" платили только за место, тут не подавали
никакой еды или питья, сюда собирался разный сброд, и здесь ели
и пили то, что приносили с собой, или же садились за общий
стол, чтобы выспаться. Корчма часто была полна, но в ней никто
никого не знал, бывало так, что все рты работали, но никто не
произносил ни слова. Не было ни стойки, ни кухни, ни огня, ни
прислуги, только у входа сидел тот, кто брал деньги за место.
Муавия садился среди посетителей "Корчмы у суки", раскуривал
трубку и повторял свое упражнение: ни одной мысли не позволял
длиться дольше, чем длилась одна затяжка. Он вдыхал смрад и
смотрел, как люди вокруг него жрут пригоревшие лепешки,
называвшиеся "драные портки", или повидло из тыквы с
виноградом, смотрел, как они проносят кусок через горький
взгляд, как вытирают платком зубы и как трещат на них рубашки,
когда они ворочаются во сне...
Поужинав говяжьими или козьими ушами, он уходил в редко
отпиравшиеся комнаты отцовского дома и там перелистывал до
глубокой ночи горы английских и французских газет, издававшихся
в Александрии в конце XIX века. Сидя на корточках и чувствуя,
как в его тело проникает сытный мрак мяса, он читал эти газеты
с жадным интересом, потому что они не могли иметь никакой связи
с ним. Этому условию как нельзя более отвечали объявления.
Из вечера в вечер он листал эти объявления давно умерших
людей, предложения, которые не имели больше смысла и блестели
пылью более старой, чем он. На этих желтых страницах
предлагалась французская настойка против ревматизма и вода для
мужских и женских ртов, August Zigler из Австрии объявлял, что
в его специализированном магазине по продаже оборудования для
больниц, для врачей и повитух есть средства против расстройства
желудка, чулки для больных с расширением вен и надувные
резиновые стельки... Какой-то анонимный покупатель искал в
рассрочку еврейскую душу, причем самого низшего сословия,
которая называется нефеш. Известный архитектор заявлял о себе
предложением построить по проекту заказчика, очень дешево,
роскошную виллу на небе, в парадизе, причем ключи владельцу
вручались бы еще при жизни, сразу после уплаты по счету,
выписанному, однако же, не строителю, а каирской голытьбе.
Рекомендовались средства против облысения во время медового
месяца, предлагалось продать волшебное слово, которое по
желанию могло быть превращено в ящерицу или лунную розу, или же
очень дешево пядь земли, с которой можно наблюдать лунную
радугу всегда, когда наступает третья джума месяца
раби-аль-ахир. Каждая женщина, после того как очистится, как от
насекомых, от прыщиков, веснушек и родинок, может стать
красавицей с помощью белил английской фирмы Rony and Son.
Фарфоровый сервиз для зеленого чая в форме персидской курицы с
цыплятами мог быть приобретен вместе с миской, под которой
некоторое время находилась душа седьмого имама... Бесчисленное
множество имен, адреса уже давно переставших существовать фирм
и продавцов, магазинов, которые давно не работают, пестрели на
старых страницах газет, и д-р Муавия погружался в этот
исчезнувший мир как в некое новое спасительное общество,
незаинтересованное в его бедах и заботах. Как-то вечером 1971
года, когда он чувствовал каждый свой зуб как отдельную букву,
д-р Муавия сел и ответил на одно объявление от 1896 года. Он
аккуратно выписал на конверте имя и адрес, которые, может быть,
давно уже не существовали в Александрии, и послал предложения
по почте. С тех пор он каждый вечер обращался по одному из
адресов конца XIX века. Груды его писем направлялись в
неизвестность, но однажды утром пришел первый ответ. Незнакомец
писал, что хотя у него больше нет для продажи указанного в
объявлении патента Турул из Франции для использования в
домашнем хозяйстве, о котором пишет в своем письме д-р Муавия,
однако он может предложить коечто другое. И действительно, на
следующее утро в доме Муавия в связи с этим объявлением
появились девушка и попугай, они дуэтом спели ему песню о
сандалиях на деревянной подошве. Потом попугай пел один на
каком-то незнакомом Муавии языке. Когда Муавия спросил у
девушки, кто из них продается, она ответила, что он может
выбирать. Д-р Муавия засмотрелся на девушку - у нее были
красивые глаза и груди как два крутых яйца. Он очнулся от
летаргии, приказал Аслану освободить одну из больших комнат в
мансарде, установил там стеклянный обруч и купил попугая. Потом
постепенно, по мере того как приходили ответы на его письма от
кто знает каких далеких наследников давних авторов объявлений,
он начал заполнять эту комнату. Здесь собралось много мебели
странного вида и непонятного назначения, огромное седло для
верблюда, женское платье с колокольчиками вместо пуговиц,
железная клетка, в которой держат подвешенными под потолком
людей, два зеркала, одно из которых несколько запаздывало в
передаче движений, а другое было разбито, старая рукопись со
стихотворением, написанным на неизвестном ему языке и
неизвестными буквами.
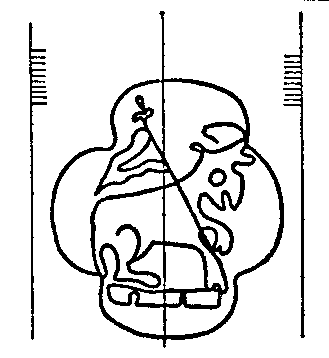 Год спустя комната в мансарде была забита вещами, и
однажды утром, войдя в нее, д-р Муавия был ошеломлен, поняв,
что все им приобретенное начинает складываться в нечто имеющее
смысл. Бросалось в глаза, что часть этих вещей представляет
собой оборудование для чего-то походившего на больницу. Но на
больницу необычную, возможно древнюю, в которой лечили не так,
как лечат сейчас. В больнице д-ра Муавии были сиденья со
странными прорезями, скамьи с кольцами для того, чтобы
привязывать сидящих, деревянные шлемы с отверстиями только для
левого или для правого глаза или же с дыркой для третьего глаза
на темени, Муавия поместил эти вещи в отдельную комнату, позвал
своего коллегу с медицинского факультета и показал их ему. Это
была его первая после войны 1967 года встреча с одним из бывших
университетских друзей. Медик осмотрел вещи и сказал: это
древнейшее оборудование для лечения снов, точнее для лечения
зрения, которым пользуются во сне. Потому что во сне, по
некоторым верованиям, мы видим совсем не тем зрением, которым
видим наяву.
Д-р Муавия усмехнулся такому выводу и занялся остальными
вещами. Они по-прежнему находились в первой большой комнате с
попугаем, однако установить связь между ними было труднее, чем
между теми, что представляли собой средства для лечения зрения,
которым видят сны. Долго пытался он найти общий знаменатель для
всего этого старья и наконец решился прибегнуть к методу,
которым пользовался раньше - в своей предыдущей жизни ученого.
Он решил искать помощь у компьютера. Позвонил по телефону
одному из своих бывших сотрудников в Каире, специалисту по
теории вероятности, и попросил его ввести в компьютер названия
всех предметов, которые перечислит ему в письме. Три дня спустя
компьютер выдал результат, и д-р Муавия получил из Каира ответ.
Что касается стихотворения, о нем машина знала только то, что
оно написано на каком-то славянском языке на бумаге 1660 года с
водяным знаком, на котором ягненок под знаменем с трехлистным
клевером. Остальные же предметы - такие, как попугай, седло для
верблюда с колокольчиками, засохший плод, похожий одновременно
на рыбу и шишку, клетка для людей и другие -объединяло только
одно. А именно - из скудных данных, которыми компьютер
располагал главным образом на основе исследований самого д-ра
Муавии, вытекало, что все эти вещи упоминались в утраченном в
настоящее время "Хазарском словаре".
Так д-р Муавия снова оказался там, где он был перед
началом войны. Он снова отправился в "Корчму у суки", раскурил
трубку, огляделся вокруг, погасил ее и вернулся в Каир, к
прежней работе в университете. На столе его ожидала гора писем
и приглашений на встречи и симпозиумы, из которых он выбрал
одно и начал готовиться к докладу на научной конференции в
октябре 1982 года в Царьграде на тему "Культура Черноморского
побережья в средние века". Он снова прочитал Иуду Халеви, его
сочинение о хазарах, написал свой доклад и поехал в Царьград,
надеясь, что там он, быть может, .встретится с кем-нибудь, кто
больше, чем он, знает о хазарских делах. Тот, кто убил д-ра
Муавию в Царьграде, сказал, направив на него револьвер: -
Открой пошире рот, чтобы я не испортил тебе зубы!
Д-р Муавия разинул рот, и он его убил. И так хорошо
прицелился, что зубы д-ра Муавии остались целы.
Год спустя комната в мансарде была забита вещами, и
однажды утром, войдя в нее, д-р Муавия был ошеломлен, поняв,
что все им приобретенное начинает складываться в нечто имеющее
смысл. Бросалось в глаза, что часть этих вещей представляет
собой оборудование для чего-то походившего на больницу. Но на
больницу необычную, возможно древнюю, в которой лечили не так,
как лечат сейчас. В больнице д-ра Муавии были сиденья со
странными прорезями, скамьи с кольцами для того, чтобы
привязывать сидящих, деревянные шлемы с отверстиями только для
левого или для правого глаза или же с дыркой для третьего глаза
на темени, Муавия поместил эти вещи в отдельную комнату, позвал
своего коллегу с медицинского факультета и показал их ему. Это
была его первая после войны 1967 года встреча с одним из бывших
университетских друзей. Медик осмотрел вещи и сказал: это
древнейшее оборудование для лечения снов, точнее для лечения
зрения, которым пользуются во сне. Потому что во сне, по
некоторым верованиям, мы видим совсем не тем зрением, которым
видим наяву.
Д-р Муавия усмехнулся такому выводу и занялся остальными
вещами. Они по-прежнему находились в первой большой комнате с
попугаем, однако установить связь между ними было труднее, чем
между теми, что представляли собой средства для лечения зрения,
которым видят сны. Долго пытался он найти общий знаменатель для
всего этого старья и наконец решился прибегнуть к методу,
которым пользовался раньше - в своей предыдущей жизни ученого.
Он решил искать помощь у компьютера. Позвонил по телефону
одному из своих бывших сотрудников в Каире, специалисту по
теории вероятности, и попросил его ввести в компьютер названия
всех предметов, которые перечислит ему в письме. Три дня спустя
компьютер выдал результат, и д-р Муавия получил из Каира ответ.
Что касается стихотворения, о нем машина знала только то, что
оно написано на каком-то славянском языке на бумаге 1660 года с
водяным знаком, на котором ягненок под знаменем с трехлистным
клевером. Остальные же предметы - такие, как попугай, седло для
верблюда с колокольчиками, засохший плод, похожий одновременно
на рыбу и шишку, клетка для людей и другие -объединяло только
одно. А именно - из скудных данных, которыми компьютер
располагал главным образом на основе исследований самого д-ра
Муавии, вытекало, что все эти вещи упоминались в утраченном в
настоящее время "Хазарском словаре".
Так д-р Муавия снова оказался там, где он был перед
началом войны. Он снова отправился в "Корчму у суки", раскурил
трубку, огляделся вокруг, погасил ее и вернулся в Каир, к
прежней работе в университете. На столе его ожидала гора писем
и приглашений на встречи и симпозиумы, из которых он выбрал
одно и начал готовиться к докладу на научной конференции в
октябре 1982 года в Царьграде на тему "Культура Черноморского
побережья в средние века". Он снова прочитал Иуду Халеви, его
сочинение о хазарах, написал свой доклад и поехал в Царьград,
надеясь, что там он, быть может, .встретится с кем-нибудь, кто
больше, чем он, знает о хазарских делах. Тот, кто убил д-ра
Муавию в Царьграде, сказал, направив на него револьвер: -
Открой пошире рот, чтобы я не испортил тебе зубы!
Д-р Муавия разинул рот, и он его убил. И так хорошо
прицелился, что зубы д-ра Муавии остались целы.
Древнееврейские источники о хазарском вопросе
АТЕХ**** (VIII век) -имя хазарской принцессы, которая жила
в период иудаизации хазар ****...
Принцесса Атех в хазарской полемике была очень
красноречива. Она сказала: "Мысли с неба завеяли меня, как
снег. Я потом едва смогла согреться и вернуться к жизни..."
Принцесса Атех помогла Исааку Сангари***, еврейскому
участнику хазарской полемики, тем, что своими доводами
опровергла арабского участника, и хазарский каган склонился в
сторону еврейской веры. Существует мнение, что Атех писала
стихи и они сохранились в "хазарских книгах", которыми
пользовался Иуда Халеви ***, древнееврейский автор хроники о
хазарской полемике. Согласно другим источникам, именно Атех и
составила сборник или энциклопедию о хазарах, содержащую
обширную информацию об их истории, вере, о людях, читающих сны
*. Все эти сведения были собраны и распределены в циклы стихов,
расположенных в алфавитном порядке, соответственно, и полемика
при дворе хазарского владыки была описана в поэтической форме.
На вопрос, кто, по ее мнению, победит в полемике, Атех сказала:
"Когда сталкиваются два ратника, побеждает тот, кто будет
дольше лечить свои раны". Как на дрожжах, рос потом "Хазарский
словарь" вокруг сборника принцессы, о котором в одном из
источников говорится, что он назывался "О страстях слов". Если
это было действительно так, принцесса Атех была первым автором
этой книги, ее прасоздателем. Только в этом первоначальном
словаре на хазарском языке еще не существовало нынешних трех
книг, это был пока один словарь и один язык. От того,
первоначального, до настоящего дошло очень немногое, столько,
сколько грусти доходит от одной собаки до другой, когда она
слышит, как дети подражают лаю.
То, что каган благодаря принцессе Атех принял молитвенное
покрывало и Тору, разъярило остальных участников полемики.
Поэтому исламский демон в наказание сделал так, что принцесса
Атех забыла свой хазарский язык и все свои стихи. Она забыла
даже имя своего любовника и единственное слово, оставшееся в ее
памяти, было название плода, похожего по форме на рыбу.
Но прежде чем это произошло, принцесса Атех, предчувствуя
опасность, приказала собрать как можно больше попугаев, умеющих
произносить человеческие слова. Для каждой статьи "Хазарского
словаря" во дворец был доставлен один попугай, и каждого
заставили заучить по одной статье, так что в любое время он мог
воспроизвести ее, потому что знал наизусть соответствующие
стихи. Разумеется, стихи были на хазарском языке, и попугай их
на этом языке и декламировал. После разрыва с верой хазар
хазарский язык стал стремительно исчезать, и тогда Атех
выпустила на свободу всех попугаев, обученных хазарскому языку.
Она сказала: "Летите и научите других птиц этим стихам, потому
что здесь их скоро никто не будет знать..." Птицы разлетелись
по лесам Черноморского побережья. Там они учили своим стихам
других попугаев, те учили третьих, и так пришло время, когда
только попугаи знали эти стихи и говорили на хазарском языке. В
XVII веке на берегах Черного моря был пойман один попугай,
умевший декламировать несколько стихотворений на каком-то
непонятном языке, который, по утверждению хозяина попугая,
царьградского дипломата Аврама Бранковича*, был языком хазар.
Он приказал одному из своих писарей постоянно записывать все,
что произносит попугай, надеясь таким образом получить
"попугайские стихи", то есть поэзию принцессы Атех. Вероятно,
именно таким путем "попугайские стихи" и попали в "Хазарский
словарь", изданный Даубманусом...
ДАУБМАНУС ЙОАНЕС (XVII век) - "typographus loannes
Daubmannus", польский книгоиздатель. В первой половине XVII
века выпустил в Пруссии польско-латинский словарь, однако это
же имя стоит и на первой странице другого словаря, который
вышел в 1691 году под названием "Lexicon Cosri- Continens
Colloquium seu disputationern de Religione"... Так Даубманус
выступает и как первый издатель книги, второе издание которой
читатель сейчас держит в руках. "Хазарский словарь" в первом
издании Даубмануса был уничтожен еще в 1692 году по приказу
инквизиции, однако два его экземпляра избежали этой судьбы и
сохранились. Материал для словаря, состоящего из трех книг о
хазарском вопросе, Даубманус, судя по всему, получил от одного
монаха восточно-христианской церкви, однако затем он пополнял
этот словарь, так что можно считать его не только издателем, но
и редактором "Хазарского словаря". Это видно и по тому, какие
языки употреблены в упомянутом издании. Латинский текст
комментариев, видимо, принадлежит Даубманусу, потому что монах,
конечно, не мог знать латынь. Сам же словарь был напечатан на
арабском, древнееврейском и греческом, а также сербском языках
в том виде, в котором текст словаря попал в руки издателя...
КАГАН**** - хазарский правитель, название происходит от
еврейского слова "коэн", что значит князь. Имя первого кагана
после принятия хазарским царством иудаизма было Сабриел, а его
жену звали Серах. Имя того кагана, который решил устроить
хазарскую полемику**** и призвал к своему двору евреев, греков
и арабов, чтобы они истолковали его сны, неизвестно. Как
свидетельствуют еврейские источники, которые приводит
Даубманус***, переходу хазар**** в иудаизм предшествовал сон
кагана, о котором он поведал своей дочери или сестре принцессе
Атех**** в следующих словах:
- Мне снилось, что я иду по пояс в воде и читаю книгу.
Вода эта была река Кура, мутная, полная водорослей, такая, что
пить ее можно только через волосы или бороду. Когда
приближается большая волна, я поднимаю книгу высоко над
головой, чтобы не замочить ее, а потом снова продолжаю читать.
Глубина близко, и нужно закончить чтение прежде, чем я в нее
попаду. И тут мне является ангел с птицей на руке и говорит:
"Создателю дороги твои намерения, но не дела твои". Утром я
просыпаюсь, открываю глаза и вижу - я по пояс в воде, в той же
самой мутной Куре, среди водорослей, держу ту же книгу в руках,
передо мной ангел, тот самый, из сна, с птицей. Быстро закрываю
глаза, но река, ангел, птица и все остальное по-прежнему тут:
открываю глаза - та же картина. Ужас. Читаю первое, что
попадается в книге: "Пусть не похваляется тот, кто
обувается..." Я закрываю глаза, но продолжение фразы вижу и
дочитываю ее с закрытыми глазами: "...так же как тот, кто уже
разулся". Тут с руки ангела вспорхнула птица - я открыл глаза и
увидел, как птица улетает. Тогда мне стало ясно - я не смогу
больше закрывать глаза перед истиной, спасаться, зажмуриваясь,
нет больше ни сна, ни яви, ни пробуждения, ни погружения в сон.
Все это единый и вечный день и мир, который обвился вокруг
меня, как змея. И я увидел большое далекое счастье, оно
казалось маленьким и близким; большое я понял как пустоту, а
маленькое как свою любовь... И сделал то, что сделал.
КОЭН САМУЭЛЬ (1660-24.1Х. 1689) - дубровницкий еврей, один
из авторов этой книги. Изгнанный из Дубровника в 1689 году, он
в том же году умер по пути в Царьград, впав в оцепенение, из
которого никогда уже не очнулся...
Современники описывают Самуэля Коэна как человека
высокого, с красными глазами, один ус которого, несмотря на его
молодость, был седым. "С тех пор, как я его помню, ему всегда
было холодно. Только в последние годы он немного согрелся", -
сказала о нем однажды его мать, госпожа Клара. По ее словам,
ночью во сне он часто и далеко путешествовал и иногда
пробуждался прямо там, усталый и грязный, а иногда хромал на
одну ногу, пока не отдохнет от своих снов. Мать говорила, что
чувствовала какое-то странное неудобство, когда спал Коэн,
объясняла она это тем, что во сне он вел себя не как еврей, а
как человек иной веры, который и по субботам во сне скачет
верхом и поет, если ему снится восьмой псалом, тот, который
поют, когда хотят найти потерянную вещь, но поет на
христианский манер. Кроме еврейского он говорил по-итальянски,
на латыни и по-сербски, но ночью, во сне, бормотал на каком-то
странном языке, которого наяву не знал и который позже был
опознан как валахский. Когда его хоронили, на левой руке был
обнаружен страшный шрам, как от укуса. Он страстно мечтал
попасть в Иерусалим и во сне действительно видел этот город на
берегу времени, шагал по его улицам, застланным соломой, жил в
башне, полной шкафов, величиной с небольшую церковь, слушал шум
фонтанов, похожий на шум дождя. Но вскоре он установил, что
город, который он видит во снах и считает Иерусалимом, вовсе не
святой город, а Царьград, и это неопровержимо было установлено
благодаря одной гравюре с изображением Царьграда, которую Коэн,
собиравший старые карты неба и земли, городов и звезд, купил у
одного торговца и узнал на ней улицы, площади и башни,
снившиеся ему. У Коэна были несомненные способности, однако
они, по мнению госпожи Клары, никоим образом не были направлены
ни на что практическое. По теням облаков он определял, с какой
скоростью летят по небу ветры, хорошо помнил количественные
соотношения, действия и цифры, но людей, имена и предметы легко
забывал. Жители Дубровника запомнили, как он всегда стоит на
одном и том же месте, возле окна своей комнаты в гетто, со
взглядом, опущенным вниз. Дело в том, что книги он держал на
полу, читал их, стоя босиком и перелистывая страницы пальцами
босой ноги. Сабляк-паша ** из Требинья прослышал как-то, что в
Дубровнике есть один еврей, который мастерски делает конские
парики, так Коэн поступил к нему на службу, и оказалось, что
слухи о его умении не были преувеличены. У паши он ухаживал за
кладбищем лошадей, расположенным на берегу моря, и делал
парики, которыми во время праздников и походов украшали головы
вороных. Коэн был доволен своей службой, самого же пашу он
почти не видел. Зато часто имел дело с его слугами, ловкими в
обращении с саблей и седлом. Он начал сравнивать себя с ними и
заметил, что во сне он более ловок и быстр, чем наяву. Сделав
такой вывод, Коэн проверил его своим, самым надежным способом.
Во сне он видел себя стоящим с обнаженной саблей под яблоней.
Была осень, и он, с клинком в руке, ждал порыва ветра. Когда
налетел ветер, яблоки стали падать, ударяясь о землю с глухим
звуком, напоминающим топот копыт. Первое же яблоко, падавшее
вниз, он на лету рассек напополам своей саблей. Когда Коэн
проснулся, была осень; как и во сне, он попросил у кого-то
саблю, пошел к крепостным воротам Пиле и спустился под мост.
Там росла яблоня, и он остался ждать ветра. Когда налетел ветер
и начали падать яблоки, он убедился, что ни одно из них не
может перерубить на лету саблей. Это ему так и не удалось, и
Коэн теперь точно знал, что во сне его сабля более ловка и
быстра, чем наяву. Может быть, так было оттого, что во сне он
упражнялся, а наяву нет. Во сне он часто видел, как в темноте,
сжав саблю правой рукой, он наматывает на левую руку уздечку
верблюда, другой конец которой тянет к себе кто-то, кого он не
видит. Уши его закладывает густой мрак, но и через этот мрак он
слышит, как кто-то нацеливает в его сторону саблю и через
темноту устремляет сталь к его лицу, однако он безошибочно
чувствует это движение и выставляет свое оружие на пути свиста
и невидимого клинка, который в ту же секунду действительно со
скрежетом падает из тьмы на его саблю.
Обвинения в адрес Самуэля Коэна и последовавшие за ними
наказания посыпались сразу со всех сторон, обвинялся он в самых
разных грехах: в недозволенном вмешательстве в религиозную
жизнь дубровницких иезуитов, в том, что вступил в связь с
местной аристократкой христианской веры, а также по делу об
еретическом эссенском учении...
Все началось с весьма странного визита Самуэля Коэна в
иезуитский монастырь в Дубровнике 23.IV.1689 года, визита,
который закончился тюремным заключением. В то утро видели, как
Коэн поднимался по лестнице к иезуитам, вставляя сквозь улыбку
себе в зубы трубку, которую он начал курить и наяву, после того
как увидел, что делает это во сне. Он позвонил у входа в
монастырь и, как только ему открыли, стал расспрашивать монахов
о каком-то христианском миссионере и святом, который был лет на
восемьсот старше его, чьего имени он не знал, но знал наизусть
все его житие: и как он в Салониках и Царьграде учился в школе
и ненавидел иконы, и как гдето в Крыму учил древнееврейский, и
как в хазарском царстве обращал заблудших в христианскую веру,
причем вместе с ним был и его брат, который ему помогал. Умер
он, добавил Коэн, в Риме в 869 году. Он умолял монахов назвать
ему имя этого святого, если оно им известно, и указать, где
найти его житие. Иезуиты, однако, не пустили Коэна дальше
порога. Они выслушали все, что он сказал, постоянно при этом
осеняя крестом его рот, и позвали стражников, которые бросили
его в тюрьму. Дело в том, что после того, как в 1606 году синод
в церкви Пресвятой Богородицы принял решение против евреев,
жителям гетто в Дубровнике было запрещено любое обсуждение
вопросов христианской веры, и нарушение этого запрета
наказывалось тридцатью днями заключения. Пока Коэн отбывал свои
тридцать дней, протирая ушами скамейки, произошли две вещи,
достойные упоминания. Еврейская община приняла решение сделать
досмотр и перепись бумаг Коэна, и одновременно объявилась
женщина, заинтересованная в его судьбе.
Госпожа Ефросиния Лукаревич, знатная аристократка из
Лучарицы, каждый день в пять часов пополудни, как только тень
башни Минчета касалась противоположной стороны крепостных стен,
брала фарфоровую трубку, набивала ее табаком медового оттенка,
перезимовавшим среди изюма, раскуривала ее с помощью комочка
ладана или сосновой щепки с острова Ластово, давала
какому-нибудь мальчишке со Страдуна серебряную монетку и
посылала раскуренную трубку в тюрьму Самуэлю Коэну. Мальчишка
передавал ему набитую табаком и раскуренную трубку и возвращал
ее выкуренной из тюрьмы обратно в Лучарицу вышеупомянутой
Ефросиний.
Эта госпожа Ефросиния, из семьи аристократов
ГеталдичКрухорадичей, выданная замуж в дом дубровницких
аристократов из рода Лукари, была известна не только благодаря
своей красоте, но и из-за того, что никто никогда не видел ее
рук. Говорили, что у нее на каждой руке по два больших пальца,
что вместо мизинца на его месте у нее растет еще один большой
палец, так что каждая ее рука могла быть и левой и правой.
Говорили, что это было прекрасно видно на одной картине,
законченной втайне от госпожи Лукаревич и представлявшей собой
ее поясной портрет с книгой, которую она держала в руке двумя
большими пальцами. Если оставить в стороне эту особенность, то
в остальном госпожа Ефросиния жила так же, как и все другие
дамы ее сословия, ничем, как говорится, не отличаясь от них.
Только иногда, когда евреи в гетто устраивали театральные
представления, она непременно присутствовала на них и сидела
как зачарованная. В те времена дубровницкие власти не запрещали
эти еврейские спектакли, и однажды госпожа Ефросиния даже дала
комедиантам из гетто для какого-то представления одно из своих
платьев, "голубое с желтыми и красными полосами", для
исполнителя главной женской роли, которую тоже играл мужчина. В
феврале 1687 года в одной "пасторали" женская роль досталась
Самуэлю Коэну, и он в вышеупомянутом голубом платье госпожи
Лукари играл пастушку. В отчете, направленном дубровницким
властям доносчиками, отмечено, что "еврей Коэн" во время
представления вел себя странно, так, будто он и "не играет в
комедии". Одетый пастушкой, "весь в шелку, лентах и кружевах,
синих и красных, под белилами, так что лицо его нельзя
опознать", Коэн должен был "декламировать" объяснение в любви,
"в виршах сложенное" какомуто пастуху. Однако во время
представления он повернулся не к пастуху, а к госпоже Ефросиний
(в чье платье он был одет) и, к общему изумлению, преподнес ей
зеркало, сопроводив это "речами любовными", каковые также были
приведены в доносе...
Госпожа Ефросиния, всем на изумление, отнеслась к этому
поступку спокойно и щедро наградила исполнителя апельсинами.
Более того, когда весной наступило время идти к причастию и
госпожа Лукаревич повела дочь в церковь, весь народ увидел, что
она несет с собой в церковь и большую куклу, наряженную в
голубой наряд, сшитый 'именно из того платья с желтыми и
красными полосами, в котором "декламировал еврей Коэн во время
представления в гетто". Увидев это, Коэн закричал, показывая на
куклу, что это ведут к причастию его дочь, что это плод его
любви - его "потомство любезное", ведут в храм, пусть даже и
христианский. В тот вечер госпожа Ефросиния встретила Самуэля
Коэна перед церковью Богородицы как раз в тот час, когда
закрывались ворота гетто, дала ему поцеловать край своего
-пояса, и отвела его на том поясе, как под уздцы, в сторону, и
в первой же тени протянула ему ключ, назвав дом в Приеко, где
она будет его ждать на следующий вечер.
В назначенное время Коэн стоял перед дверью, в которой
замочная скважина находилась над замком, так что ключ ему
пришлось вставлять вверх бородкой и оттянув ручку замка кверху.
Он оказался в узком коридоре, правая стена которого была такой
же, как и все другие стены, а левая состояла из четырехгранных
каменных столбиков и ступенчато расширялась влево. Когда Коэн
посмотрел налево через эти столбики, ему открылся вид вдаль,
где он увидел пустое пространство, в глубине которого, где-то
под лунным светом, шумело море... Коэн понял, что вся левая
стена коридора - это, в сущности, лестница, поставленная своей
боковой стороной на пол... По этой лестнице он без труда
поднялся наверх, к свету, к комнате на верхнем этаже. Прежде
чем войти, он посмотрел вниз, в глубину, и увидел там море
таким, каким он и привык его видеть: оно шумело в бездне у него
под ногами. Когда он вошел, госпожа Ефросиния сидела босая и
плакала в свои волосы. Перед ней на треножнике стоял башмачок,
в нем хлеб, а на носке башмачка горела восковая свеча. Под
волосами виднелись обнаженные груди госпожи Ефросиний, в
которых были, как у глаз, ресницы и брови, и из них, как темный
взгляд, капало темное молоко... Руками с двумя большими
пальцами она отламывала кусочки хлеба и опускала их себе в
подол. Когда они размокали от слез и молока, она бросала их к
своим ногам, а на пальцах ее ног вместо ногтей были зубы.
Прижав ступни друг к другу, она этими зубами жадно жевала
брошенную пищу, но из-за того, что не было никакой возможности
ее проглотить, пережеванные куски валялись в пыли вокруг ее
ног...
Увидев Коэна, она прижала его к себе и повела к постели. В
ту ночь она сделала его своим любовником, напоила черным
молоком и сказала:
- Не надо слишком много, чтобы не состариться, потому что
это время течет из меня. До известной меры оно укрепляет, но
потом ослабляет...
После этой ночи, проведенной с ней, Коэн решил перейти в
ее, христианскую, веру. Он говорил об этом вслух повсюду, будто
в каком-то опьянении, так что все узнали об этом, однако ничего
не произошло. Когда он рассказал госпоже Ефросиний о своем
намерении, она ему сказала:
- Этого ты не делай ни в коем случае, потому что, если
хочешь знать, я тоже не христианской веры, вернее, я христианка
только временно, по мужу. В сущности, я в определенном смысле
принадлежу к твоему, еврейскому, миру, только это не так просто
объяснить. Может, тебе приходилось видеть на Страдуне хорошо
знакомый плащ на совсем незнакомой особе. Все мы в таких
плащах, и я тоже. Я - дьявол, имя мое - сон. Я пришла из
еврейского ада, из Геенны, сижу я по левую сторону от Храма,
среди духов зла, я потомок самого Гевары, о котором сказано:
"Atque hinc in illo creata est Gehenna". Я - первая Ева, имя
мое - Лилит, я знала имя Иеговы и поссорилась с ним. С тех пор
я лечу в его тени среди семисмысленных значений Торы. В моем
нынешнем обличье, в котором ты меня видишь и любишь, я создана
смешением Истины и Земли; у меня три отца и ни одной матери. И
я не смею ни шагу шагнуть назад. Если ты поцелуешь меня в лоб,
я умру. Если ты перейдешь в христианскую веру, то сам умрешь за
меня. Ты попадешь к дьяволам христианского Ада, и заниматься
тобой будут они, а не я. Для меня ты будешь потерян навсегда, и
я не смогу до тебя дотянуться. Не только в этой, но и в других,
будущих жизнях...
Так дубровницкий сефард Самуэль Коэн остался тем, кем был.
Но, несмотря на это, слухи не прекратились и тогда, когда он
отказался от своего намерения. Имя его было быстрее его самого,
и с этим именем уже происходило то, что с самим Коэном только
еще должно было произойти. Чаша переполнилась на масленицу 1689
года, в воскресенье святых апостолов. Сразу же после масленицы,
дубровницкий актер Никола Риги предстал перед судом и дал
показания в связи с тем, что вместе со своей труппой нарушил
порядок в городе. Он обвинялся в том, что вывел в комедии и
представил на сцене известного и уважаемого в Дубровнике еврея
Папа-Самуэля, а над Самуэлем Коэном издевался на глазах всего
города. Актер, защищаясь, говорил, что он понятия не имел, что
под маской во время масленичного представления скрывается
Самуэль Коэн. Как принято каждый год у дубровницкой молодежи,
стоит лишь ветру переменить цвет, Риги вместе с актером
Кривоносовичем готовит "жидиаду". масленичное представление, в
котором участвует еврей. Они наняли повозку, запряженную
волами, устроили на ней виселицу, а Кривоносович, который
раньше уже играл еврея, добыл рубаху, сшитую из парусины и
шляпу из рыбацкой сети, сделал из пакли рыжую бороду и написал
прощальное слово, которое в "жидиадах" перед смертью обычно
читает еврей. Они встретились в назначенное время уже в
костюмах и под масками, и Риги клялся перед судом, что был
уверен: на повозке везут, как и всегда на масленицу,
Кривоносовича, который, переодетый в еврея, стоит под виселицей
и сносит удары, плевки и другие унижения - в общем, все, чего
требует представление этого жанра... Когда в Лучарице перед
домом господина Лукаревича настало время в соответствии с
обычным сценарием повесить "жида"", Риги накинул ему на шею
петлю, по-прежнему убежденный, что под маской скрывается актер
Кривоносович. Но тогда тот, что был под маской, вместо
прощального слова прочитал какие-то стихи или что-то в этом
роде, бог его знает что, обращаясь при этом вот так, с петлей
на шее, к госпоже Ефросиний Лукаревич, которая с волосами,
вымытыми яйцом дятла, стояла на балконе своего палаццо. Этот
текст ничем не был похож на прощальное слово еврея из
"жидиады".,.
Только тут, услышав слова, которые могут относиться к
комедии масок, а никак не к "жидиаде", и которые совсем не
напоминали прощальное слово еврея, актеры и зрители
заподозрили, что что-то не так, и тогда Риги решил сорвать
маску с того, кто это читал. Под маской, к изумлению
присутствующих, вместо актера Кривоносовича оказался настоящий
еврей из гетто - Самуэль Коэн. Этот "жид" добровольно сносил
все удары, унижения и плевки вместо Кривоносовича - за это
Никола Риги ни в коем случае не может нести ответственность,
поскольку он не знал, что под маской возит по городу Коэна,
подкупившего Кривоносовича, который уступил ему свое место и
обещал, что будет об этом молчать. Таким образом, неожиданно
для всех получилось, что Риги не виноват в оскорблениях и
издевательствах над Самуэлем Козном, а, напротив, сам Коэн
нарушил закон, который запрещает евреям на масленицу находиться
среди христиан. Поскольку Коэн недавно был выпущен из тюрьмы
после своего визита к иезуитам, новый приговор стал лишним
аргументом за то, чтобы этого жида, который "свою голову не
бережет" и который где-то в Герцеговине смотрит у турок за
кладбищами лошадей, изгнать из города. Единственное, что было
неизвестно, вступится ли еврейская община за Коэна и будет ли
защищать его, что может затянуть решение этого дела и даже
вообще изменить его. Таким образом, пока Коэн сидел в тюрьме,
все ждали, что скажет гетто.
А в гетто решили, что огня зимой не ждут долго. И на
второлуние айяра-месяца того года раби Абрахам Папо и Ицхак
Нехама просмотрели и описали бумаги и книги в доме Коэна.
Потому что вести о его визите к монахам встревожили не только
иезуитов, но и гетто.
Когда они пришли к его дому, там никого не было. Они
позвонили и по звуку поняли, что ключ в колокольчике. Он был
подвешен к язычку. В комнате горела свеча, хотя матери Коэна не
было. Они нашли ступку для корицы, гамак, подвешенный так
высоко, что, лежа в нем, можно было читать книгу, прижатую к
потолку над глазами, песочницу, полную пахнущего лавандой
песка, трехконечный светильник с надписями на каждой ветви,
которые означали три души человека: нефеш, руах и нешмах. На
окнах стояли растения, и по их сортам посетители могли сделать
вывод, что защищают их звезды созвездия Рака. На полках вдоль
стен лежали лютня, сабля и 132 мешочка из красной, синей,
черной и белой грубой ткани, а в них рукописи самого Коэна или
чьи-то еще, но переписанные его рукой... Из книг внимание
посетителей привлекли три, найденные на полу комнаты возле
самого окна, где Коэн обычно читал. Было очевидно, что читал он
их попеременно, и такое чтение напоминало многоженство... Раби
Абрахам Папо открыл окно, и порыв южного ветра влетел в
комнату, Раби раскрыл одну из книг, прислушался на мгновение,
как трепещут на сквозняке страницы, и сказал Ицхану Нехаме:
- Послушай, тебе не кажется, что это шуршит слово: нефеш,
нефеш, нефеш?
Потом раби дал слово следующей книге, и ясно и громко
послышалось, как ее страницы, переворачиваясь на ветру,
выговаривают слово: руах, руах, руах. - Если третья проговорит
слово "нешмах",- заметил Папо,- мы будем знать, что книги
призывают души Коэна.
И как только Абрахам Папо раскрыл третью книгу, оба они
услышали, что она шепчет слово: нешмах, нешмах, нешмах!
- Книги спорят из-за чего-то, что находится в этой
комнате, - сделал вывод раби Папо,- какие-то вещи здесь хотят
уничтожить другие вещи.
Они уселись неподвижно и начали вглядываться в темноту. На
светильнике вдруг появились огоньки, будто их вызвали своим
шепотом и шорохом книги. Один огонек отделился от светильника и
заплакал на два голоса, и раби Папо сказал:
- Это плачет по телу первая, самая молодая душа Коэна, а
тело плачет по душе.
Потом эта душа приблизилась к лютне, лежащей на полке, и
прикоснулась к струнам, отчего послышалась тихая музыка, душа
сопровождала свой плач музыкой...
Так она долго делала что-то с собой, пока не превратилась
в настоящую копию Коэна, с красными глазами и одним седым усом.
Потом взяла с полки саблю и присоединилась к первой душе.
Третья же душа Коэна, самая старая, парила высоко под потолком
в форме огонька. В то время как первые две души прижались к
полке с рукописями, третья была отдельно, враждебно держась в
стороне, в углу под потолком, царапая буквы, написанные над
гамаком...
 Теперь раби Папо и Ицхак Нехама поняли, что души Коэна
поссорились из-за мешочков с рукописями, но их было так много,
что казалось невозможным пересмотреть все. Тогда раби Абрахам
спросил: - Думаешь ли ты о цвете этих чехлов то же, что и я?
- Разве не видно, что они того же цвета, что и пламя? -
заметил Нехама.- Посмотри на свечу. Ее пламя состоит из
нескольких цветов: голубой, красный, черный, этот трехцветный
огонь обжигает и всегда соприкасается с той материей, которую
он сжигает, с фитилем и маслом. Вверху, над этим трехцветным
огнем, второе белое пламя, поддерживаемое нижним, не обжигает,
но светит, то есть это огонь, питаемый огнем. Моисей на горе
стоял в этом белом пламени, которое не обжигает, а светит, а мы
стоим у подножия горы в трехцветном огне, пожирающем и
сжигающем все, кроме белого пламени, которое есть символ самой
главной и самой сокровенной мудрости. Попробуем же поискать то,
что мы ищем, в белых чехлах!
Книг было немного - все поместилось в одном мешке. Они
нашли там одно из изданий Иуды Халеви ****, опубликованное в
Базеле в 1660 году, с приложением перевода текста с арабского
на древнееврейский, автором которого был раби Иегуда Абен
Тибон, и комментариями издателя на латыни. В остальных чехлах
были рукописи Коэна...
Переглянувшись в полумраке, раби и Нехама пересмотрели
оставшиеся белые чехлы и не нашли в них ничего, кроме
нескольких десятков сложенных по алфавиту различных слов, то
есть то, что Коэн называл "Хазарским словарем" ("Lexicon
Cosri") и что, как они поняли, было сложенными в алфавитном
порядке сведениями о хазарах, об их вере, обычаях и обо всех
людях, связанных с ними, с их историей и их обращением в
иудаизм. Это был материал, похожий на тот, что за много веков
до Коэна обработал Иуда Халеви в своей книге о хазарах, однако
Коэн пошел дальше, чем Халеви, он попытался глубже войти в суть
вопроса о том, кто были неназванные в книге Халеви христианский
и исламский участники полемики ****. Коэн стремился узнать
имена этих двоих, их аргументы и восстановить их биографии для
своего словаря, который, как он считал, должен был охватить и
те вопросы, которые в еврейских источниках о хазарах остались
без внимания. Так в словаре Коэна оказались и наброски
жизнеописания одного христианского проповедника и миссионера,
очевидно, того самого, о котором Коэн расспрашивал иезуитов, но
они были очень скудны, там не было имени, которое Коэну не
удалось узнать, и этот материал нельзя было включить в словарь.
"Иуда Халеви,- записал Коэн в комментарии к этой незаконченной
биографии, - его издатели и другие еврейские комментаторы и
источники называют имя только одного из трех участников в
религиозной полемике при дворе хазарского кагана. Это еврейский
представитель - Исаак Сангари***, который истолковал хазарскому
правителю сон о явлении ангела. Имен остальных участников
полемики - христианского и исламского - еврейские источники не
называют, там говорится только, что один из них философ, а про
другого, араба, даже не сообщают, убили ли его до или после
полемики. Может быть, где-то на свете, - писал дальше Коэн,-
кто-то еще собирает документы и сведения о хазарах, так же как
это делал Иуда Халеви, и составляет такой же свод источников
или словарь, как это делаю я. Может быть, это делает кто-то,
принадлежащий к иной вере - христианин или приверженец ислама.
Может быть, где-то в мире есть двое, которые ищут меня так же,
как я ищу их. Может быть, они видят меня во снах, как и я их,
жаждут того, что я уже знаю, потому что для них моя истина -
тайна, так же как и их истина для меня - сокрытый ответ на мои
вопросы. Не зря говорят, что шестидесятая доля каждого сна -
это истина. Может, и я не зря вижу во сне Царьград и себя в
этом городе вижу совсем не таким, каков на самом деле, а ловко
сидящим в седле и с быстрой саблей, хромым и верующим не в того
бога, в которого верую я. В Талмуде написано: "Пусть идет,
чтобы его сон был истолкован перед троицей!" Кто моя троица? Не
рядом ли со мною и второй, христианский охотник за хазарами, и
третий, исламский? Не живут ли в моих душах три веры вместо
одной? Не окажутся ли две мои души в аду и лишь одна в раю? Или
же всегда, как и в книге о сотворении света, необходима троица,
а кто-то один недостаточен, и поэтому я не случайно стремлюсь
найти двух других, как и они, вероятно, стремятся найти
третьего. Не знаю, но я ясно прочувствовал, что три мои души
воюют во мне, и одна из них с саблей уже в Царьграде, другая
сомневается, плачет и поет, играя на лютне, а третья против
меня. Та, третья, еще не дает о себе знать или же никак не
может до меня добраться. Поэтому я вижу во снах только того
первого, с саблей, а второго, с лютней, не вижу. Рав Хисда
говорит: "Сон, который не истолкован, подобен письму, которое
не прочитано", я же переиначиваю это и говорю: "Непрочитанное
письмо подобно сну, который не приснился". Сколько же мне снов
послано, которые я никогда не получил и не увидел? Этого я не
знаю, но знаю, что одна из моих душ может разгадать
происхождение другой души, глядя на чело спящего человека. Я
чувствую, что частицы моей души можно встретить среди других
человеческих существ, среди верблюдов, среди камней и растений;
чей-то сон взял материал от тела моей души и строит из него
свой дом где-то далеко. Мои души для своего совершенства ищут
содействия других душ, так души помогают друг другу. Я знаю,
мой хазарский словарь охватывает все десять чисел и 22 буквы
еврейского алфавита; из них можно построить мир, но вот ведь я
этого не умею. Мне не хватает некоторых имен, и некоторые места
для букв из-за этого останутся незаполненными. Как бы я хотел,
чтобы вместо словаря с именами можно было взять только одни
глаголы! Но человеку это не дано. Потому что буквы, которые
составляют глаголы, происходят от Элохима, они нам неизвестны,
и они суть не человечьи, но божьи, и только те буквы, которые
составляют имена, те, что происходят из Геенны и от дьявола,
только они составляют мой словарь, и только эти буквы доступны
мне. Так что мне придется держаться имен и дьявола..."
- Баал халомот! - воскликнул раби Папо, когда они дошли до
этого места в бумагах Коэна.- Не бредит ли он? - Я думаю иначе,
- отвечал Нехама и загасил свечу.
- Что ты думаешь? - спросил раби Папо и загасил
светильник, причем души прошептали каждая свое имя и исчезли.
- Я думаю, - ответил Нехама в полной темноте, такой, что
мрак комнаты смешивался с мраком его уст, - я думаю, что ему
больше подойдет - Землин, Кавала или Салоники?
- Салоники, еврейский город? - удивился раби Папо. - Какой
может быть разговор об этом? Его нужно сослать в рудники в
Сидерокапси!
- Мы отправим его в Салоники к его невесте, - заключил
второй старец задумчиво, и они вышли, не зажигая свет.
Так на судьбе Самуэля Козна была поставлена печать. Он был
изгнан из Дубровника и, как можно понять из донесения
жандармов, простился со своими знакомыми "на день святого
Фомы-апостола в 1689 году, когда стояла такая засуха, что у
скота линяли хвосты, а весь Страдун был покрыт птичьими
перьями". В тот вечер госпожа Ефросиния надела мужские брюки и
вышла в город, как любая женщина. Коэн в тот вечер последний
раз шел от аптеки к палаццо Спонза, и она под аркой у Гаришта
бросила ему под ноги серебряную монету. Он поднял монету и
подошел к ней, в темноту. Сначала он вздрогнул, думая, что
перед ним мужчина, однако стоило ей до него дотронуться
пальцами, как он сразу же ее узнал.
- Не уходи, - сказала она ему, - с судьями все можно
уладить. Только скажи. Нет такой ссылки, которую нельзя было бы
заменить недолгим заключением в береговых тюрьмах. Я суну кому
надо несколько золотых эскудо в бороду, и нам не придется
расставаться.
- Я должен уйти не потому, что я изгнан, - ответил Коэн,-
для меня эти их бумаги значат не больше, чем птичий помет. Я
должен идти, потому что сейчас крайний срок. С детства я вижу
во сне, как во мраке бьюсь с кем-то на саблях и хромаю. Я вижу
сны на языке, которого я не понимаю наяву. С первого такого сна
прошло двадцать два года, и наступило время, когда сон должен
сбыться. Тогда все станет ясно. Или сейчас, или никогда. А
прояснится все только там, где я вижу себя во снах - в
Царьграде. Потому что не напрасно мне снятся эти кривые улицы,
проложенные так, чтобы убивать ветер, эти башни и вода под
ними...
- Если мы больше не встретимся в этой жизни, - сказала на
это госпожа Ефросиния, - мы встретимся в какой-нибудь другой,
будущей. Может, мы лишь корни душ, которые прорастут
когданибудь. Может, твоя душа носит в себе, как плод, мою душу
и однажды родит ее, но до того обе они должны пройти путь,
который им предопределен...
- Даже если это так, то в том будущем мире мы не узнаем
друг друга. Твоя душа-это не душа Адама, та, которая изгнана в
души всех следующих поколений и осуждена умирать снова и снова
в каждом из нас.
- Если не так, то встретимся как-нибудь по-другому. И я
тебе скажу, как ты меня узнаешь. Я буду тогда мужского пола, но
руки у меня останутся такими же - каждая с двумя большими
пальцами, так что обе могут быть и левой и правой...
С этими словами госпожа Ефросиния поцеловала Коэна в
перстень, и они расстались навек. Смерть госпожи Лукаревич,
которая последовала вскоре и была так ужасна, что даже воспета
в народных песнях, не могла бросить тень на Коэна, потому что
он в то время, когда госпожа Ефросиния умерла, и сам уже впал в
свое оцепенение, в сон без возвращения и пробуждения.
Сначала все думали, что Коэн отправится в Салоники к своей
невесте Лидисии и там на ней женится, как и рекомендовала ему
еврейская община в Дубровнике. Но он этого не сделал. В тот
вечер он набил трубку, а утром выкурил ее в стане требиньского
Саблякпаши, который готовился к походу на Валахию. Так Коэн
вопреки всему направился в сторону Царьграда. Но он туда
никогда не попал. Очевидцы из свиты паши, которых подкупили
дубровницкие евреи, предложив им растительных красок для льна
за то, что они расскажут им о конце Коэна, говорят следующее:
В тот год паша направлялся со своей свитой на север, а
облака над ними все время летели на юг, будто хотели унести их
память. Уже одно это было плохим знаком. Не спуская глаз со
своих собак, они неслись через пахучие боснийские леса, как
сквозь времена года, и влетели на постоялый двор под Шабацем в
ночь лунного затмения. Один из жеребцов паши сломал ноги на
Саве, и он призвал своего смотрителя кладбища лошадей. Коэн,
однако, спал так крепко, что не слыхал, как его зовут, и паша
ударил его кнутом между глаз с оттяжкой, будто тащит воду из
колодца, и гривны на его руке зазвенели. Коэн в тот же миг
вскочил и бегом отправился выполнять свои обязанности. После
этого события следы Коэна на некоторое время исчезают, потому
что из лагеря паши он уходит в Белград, который тогда находился
в руках австрийцев. Известно, что в Белграде он посещал
огромный трехэтажный дом турецких сефардов, наполненный
сквозняками, которые свистели по всем коридорам... Он
остановился на старом постоялом дворе, в одной из его сорока
семи комнат, который принадлежал тамошним немецким евреям по
фамилии Ашкенази, и тут нашел книгу о толковании снов,
написанную на ладино - испанско-еврейском языке, на котором
говорят евреи в странах Средиземноморья...
Когда отряд Сабляк-паши вышел к Дунаю, одной из четырех
райских рек, которая символизирует аллегорический пласт в
Библии, Коэн опять присоединился к нему... И как только
начались первые перестрелки с сербами и австрийцами, паша
приказал отлить на Джердапе пушку, которая смогла бы стрелять
на три тысячи локтей ядрами вдвое тяжелее обычных...
Когда пушка была готова, начался обстрел австрийских
позиций. Сабляк повел в атаку весь свой отряд, и на сербские
позиции обрушились все, включая и Коэна, который вместо сабли
имел при себе только мешок для овса, хотя в нем, как нам уже
известно, не было ничего ценного, только старые, мелко
исписанные листы бумаги в белых чехлах.
- Под небом, густым, как похлебка, - рассказывал очевидец,
- влетели мы на одну из позиций, где застали трех человек, все
остальные в панике бежали. Двое играли в кости, не обращая на
нас никакого внимания. Возле них перед шатром, словно в бреду,
лежал какой-то богато одетый всадник, и на нас напали только
его собаки. В мгновение ока наши изрубили одного из игроков и
копьем пригвоздили к земле спящего всадника. Он, уже
пронзенный, приподнялся на локте и посмотрел на Коэна, и тот от
этого взгляда упал как подстреленный, и из мешка посыпались его
бумаги. Паша спросил, что это с Коэном, не убит ли он, на что
другой игрок ответил по-арабски: - Если его зовут Коэн, то его
сразила не пуля. Его свалил сон... Оказалось, что это правда, и
странные слова спасли игроку жизнь ровно на один день.
Кончается сообщение о Самуэле Коэне, еврее из
дубровницкого гетто, рассказом о его последнем сне, тяжелом и
глубоком забытьи, в котором он потонул безвозвратно, как в
глубоком море. Последний рассказ о Самуэле Коэне услышал
требиньский Сабляк-паша от того игрока, жизнь которого пощадили
на поле боя. То, что он тогда сказал паше, останется навсегда
зашитым в шелковый шатер на Дунае, и до нас дошли только
отрывки разговора, которые доносились из-за зеленой ткани, не
пропускавшей дождя. Игрока звали Юсуф Масуди, и он умел читать
сны. Он мог в чужом сне поймать даже зайца, а не то что
человека, и служил у того самого всадника, которого пробудили
копьем. Всадник этот был важным и богатым человеком, звали его
Аврам Бранкович, и одни его борзые стоили не меньше ладьи
пороха. Масуди рассказывал о нем невероятные вещи. Он уверял
Саблякпашу, что Коэн в своем тяжелом сне видел именно этого
Аврама Бранковича.
- Ты говоришь, что читаешь сны? - спросил его на это
Саблякпаша.- Можешь ты ли тогда прочитать и этот сон Коэна?
- Конечно, могу. Я уже вижу, что ему снится: поскольку
Бранкович умирает, он видит его смерть.
При этих словах паша как будто оживился.
- Это значит, - быстро сказал он, - что Коэн может сейчас
увидеть то, чего не может ни один смертный - видя во сне
умирающего Бранковича, он может пережить смерть и остаться
живым?
- Да, это так, - согласился Масуди,- но он не может
пробудиться и рассказать нам все, что он видел во сне.
- Но зато ты можешь увидеть, как он видит во сне эту
смерть... - Могу и завтра я расскажу вам, как умирает человек и
что он при этом чувствует...
Ни Сабляк-паша, ни мы никогда не узнаем, зачем предлагал
это игрок, то ли чтобы продлить хоть на один день свою жизнь,
то ли чтобы действительно посмотреть сон Коэна и найти там
смерть Бранковича. Паша все же решил, что стоит попробовать. Он
сказал, что каждый следующий день стоит столько же, сколько
неиспользованная подкова, а вчерашний столько, сколько
потерянная подкова, и оставил Масуди жить до утра.
Этой ночью Коэн спал в последний раз, его огромный, как
птица, нос высовывался из его улыбки во сне, а эта улыбка
походила на огрызок с какого-то давно съеденного обеда. Масуди
не отходил от его изголовья до утра, а когда рассвело, уже не
был похож на самого себя, его словно бичевали в тех снах,
которые он читал. А прочитал он в них следующее:
Бранкович будто и не умирал от раны, нанесенной копьем. Он
этой раны и не чувствовал. Он чувствовал сразу множество ран, и
число их росло со страшной быстротой. Ему чудилось, что он
стоит высоко на каком-то каменном столбе и считает. Была весна,
дул ветер, который заплетал ветки ив в косы, и все ивы от
Муреша до Тисы и Дуная стояли с косами. Что-то вроде стрел
вонзалось в его тело, но процесс этот тек в обратном
направлении: от каждой стрелы он сначала чувствовал рану, потом
укол, потом боль прекращалась, слышался в воздухе свист, и
наконец звенела тетива, отпуская стрелу. Так, умирая, он считал
эти стрелы, от одной до семнадцати, а потом он упал со столба и
перестал считать. При падении он столкнулся с чем-то твердым,
неподвижным и огромным. Но это была не земля. Это была
смерть...
А потом в этой же смерти он умер и во второй раз, хотя
казалось, что в ней нет места даже для малейшей боли. Между
ударами стрел он тоже умирал раз, но тогда совсем по-другому -
умирал недозрелой мальчишеской смертью, и единственное, чего он
боялся, - это не успеть справиться с огромной работой (потому
что смерть-это тяжелый труд), чтобы, когда придет миг падения
со столба, закончить и с другой смертью. Поэтому он напрягался
и спешил. В этой неподвижной спешке он лежал за пестрой
комнатной печью, сложенной в форме маленькой, как будто
игрушечной церковки с красными и золотыми куполами. Горячие и
ледяные приступы боли катились от его тела в комнату, как будто
из него освобождаются и быстро сменяют друг друга времена года.
Сумрак ширился, как влага, каждая комната в доме чернела
по-своему, и только окна были еще нагружены последним светом
дня, чуть более бледным, чем сумерки в комнате. Кто-то прошел
тогда из невидимых сеней, неся свечу; казалось, что на косяке
было столько черных дверей, сколько страниц в книге, вошедший
перелистал их быстро, так что свеча затрепетала, и шагнул в
комнату. Что-то потекло из него, и он выпустил из себя все свое
прошлое и остался пуст. А потом будто бы поднялись воды, и на
дворе поднялась ночь с земли на небо, и у него вдруг выпали
сразу все волосы, будто кто-то сбил шапку с его головы, которая
была уже мертвой.
И тогда во сне Коэна возникла и третья смерть Бранковича.
Она была едва заметна, заслонена чем-то, что могло быть
накопленным временем. Будто сотни лет стояли между двумя
первыми смертями Бранковича и третьей, которая едва была видна
с того места, где находился Масуди... Та, третья, смерть была
быстрой и короткой. Бранкович лежал в какой-то странной
постели, и какой-то мужчина, схватив подушку, начал душить его.
Все это время Бранкович думал только об одном - нужно схватить
яйцо, лежащее на столике рядом с кроватью, и разбить его.
Бранкович не знал, зачем это нужно, но пока его душили
подушкой, он понимал, что это единственное, что важно.
Одновременно он понял, что человек открывает свое вчера и
завтра с большим опозданием, через миллион лет после своего
возникновения - сначала завтра, а потом вчера. Он открыл их
одной давней ночью, когда в сумраке угасал настоящий день,
притиснутый и почти что прерванный между прошлым и будущим,
которые в ту ночь настолько разрослись, что почти соединились.
Было так и сейчас. Настоящий день угасал, задушенный между
двумя вечностями - прошлой и будущей, и Бранкович умер в третий
раз, в тот миг, когда прошлое и будущее столкнулись в нем и
раздавили его тогда, когда ему наконец удалось раздавить
яйцо...
И тут вдруг сон Коэна оказался пустым, как пересохшее
русло реки. Настало время пробуждения, но не было больше
никого, чтобы видеть во сне явь Коэна, как это при жизни делал
Бранкович. Вот так и с Коэном должно было случиться то, что
случилось. Масуди видел, как во сне Коэна, который превращался
в агонию, со всех вещей, окружавших его, как шапки, попадали
имена и мир остался девственно чист, как в первый день
сотворения. Только первые десять чисел и те буквы алфавита, что
означают глаголы, сверкали надо всем, что окружало Коэна, как
золотые слезы. И тогда он понял, что числа десяти заповедей -
это тоже глаголы и что, забывая язык, их забывают последними и
они остаются как отзвук, и даже тогда, когда сами заповеди уже
исчезли из памяти.
В этот миг Коэн проснулся в своей смерти, и перед Масуди
исчезли все пути, потому что над горизонтом опустилась пелена,
на которой водой из реки Яббок было написано: "Ибо ваши сны -
это дни в ночах".
ЛУКАРЕВИЧ (Luccari) ЕФРОСИНИЯ (XVII век) - дубровницкая
аристократка из рода Геталдич-Крухорадичей, замужем за одним из
аристократов рода Luccari... Была известна своим свободным
поведением и красотой; в свое оправдание она шутя говорила, что
страсть и честь по одной дорожке не ходят, и имела по два
больших пальца на каждой руке. Она всегда была в перчатках,
даже во время обеда, любила красные, голубые и желтые кушанья и
носила платья этих же цветов... Говорили, что она состоит в
тайной связи с одним евреем из дубровницкого гетто, по имени
Самуэль Коэн ***... Еще рассказывали, что девушкой она умела
колдовать, выйдя замуж, стала ведьмой, а после смерти должна
была три года пробыть вурдалаком, но в это последнее не все
верили, потому что считалось, что чаще всего такое происходит с
турками, реже с греками, а с евреями никогда. Что же касается
госпожи Ефросиний, о ней шушукались, что втайне она Моисеевой
веры.
Как бы то ни было, когда Самуэля Козна изгнали из
Дубровника, госпожа Ефросиния не осталась к этому равнодушной;
говорили, что она умрет от тоски, потому что с того дня она по
ночам, как камень на сердце, держала собственный кулак, сжатый
с двух сторон большими пальцами. Но вместо того, чтобы умереть,
она однажды утром исчезла из Дубровника, потом ее видели в
Конавле, на Данчах, как она в полдень сидит на могиле и
расчесывает волосы, позже рассказывали, что она отправилась на
север, в Белград, на Дунай, - в поисках своего любовника.
Услышав, что Коэн умер под Кладовом, она никогда больше не
вернулась домой. Остриглась и закопала волосы, и неизвестно,
что с ней потом стало...
Д-р ДОРОТА ШУЛЬЦ (Краков, 1944- ) - славист, профессор
университета в Иерусалиме; девичья фамилия - Квашневская. Ни в
бумагах Краковского Ягеллонского университета в Польше, который
окончила Квашневская, ни в документации Йельского университета
в США в связи с присвоением ученой степени доктора Дороте
Квашневской, нет сведений о ее происхождении. Дочь еврейки и
поляка, Квашневская родилась в Кракове при странных
обстоятельствах. Мать оставила ей талисман, принадлежавший
раньше отцу Дороты Квашневской. Текст был таким: "Сердце мое -
моя дочь; в то время как я равняюсь по звездам, оно равняется
по луне и по боли, которая ждет на краю всех скоростей..."
Квашневская никогда не смогла узнать, чьи это были слова. Брат
ее матери, Ашкенази Шолем, исчез в 1943 году во время немецкой
оккупации Польши и преследований евреев, однако перед
исчезновением ему удалось спасти сестру. Он, не раздумывая
долго, раздобыл для сестры фальшивые документы на имя какой-то
польки и женился на ней. Венчание состоялось в Варшаве, в
церкви святого Фомы, и считалось, что это брак между крещеным
евреем и полькой. Он курил вместо табака чай из мяты, и когда
его забрали, сестра, она же и жена, Анна Шолем, которую
продолжали считать полькой и которая носила девичью фамилию
какой-то неизвестной ей Анны Закевич, развелась со своим мужем
(и братом, о чем, правда, знала только она сама) и так спасла
свою жизнь. Сразу же после этого она опять вышла замуж за
некоего вдовца, по фамилии Квашневский, с глазами в мелких
пятнышках, как яйца; он был безрогим на язык и рогат в мыслях.
От него у Анны был один-единственный ребенок - Дорота
Квашневская. Закончив отделение славистики, Дорота переехала в
США, позже защитила там докторскую диссертацию по проблемам
древних славянских литератур, но когда Исаак Шульц, которого
она знала еще со студенческих лет, уехал в Израиль, она
присоединилась к нему. В 1967 году во время
израильско-египетской войны он был ранен, и Дорота в 1968 году
вышла за него замуж, осталась жить в Тель-Авиве и Иерусалиме,
читала курс истории раннего христианства у славян, однако
постоянно посылала на свое собственное имя письма в Польшу. На
конвертах она писала свой старый адрес в Кракове, и эти письма,
которые Квашневская, в замужестве Шульц, писала самой себе,
сохранила в Польше нераспечатанными ее бывшая краковская
хозяйка квартиры, надеясь, что когда-нибудь сможет вручить их
Квашневской. Письма эти короткие, кроме одного или двух, и
представляют собой нечто вроде дневника д-ра Дороты Шульц в
период с 1968 по 1982 год. Связь их с хазарами состоит в том,
что последнее письмо, написанное из следственной тюрьмы в
Царьграде, затрагивает вопрос о хазарской полемике ***. Письма
приводятся в хронологическом порядке.
1. Тель-Авив, 21 августа 1967.
Дорогая Доротка,
у меня здесь такое чувство, что я ем скоромное за чужой, а
пощусь за свой счет. Я знаю, что, пока я пишу тебе эти строки,
ты уже стала немного моложе меня, там, в своем Кракове, в нашей
комнате, где всегда пятница, где в нас пихали корицу, как будто
мы яблоки. Если ты когда-нибудь получишь это письмо, ты станешь
старше меня в тот момент, когда его прочтешь.
Исааку лучше, он лежит в прифронтовом госпитале, но быстро
поправляется, и это заметно по его почерку. Он пишет, что видит
во сне "краковскую тишину трехдневную, дважды разогревавшуюся,
немного подгоревшую на дне". Скоро мы встретимся, и я боюсь
этой встречи не только из-за его раны, о которой еще ничего не
знаю, но и потому, что все мы деревья, вкопанные в собственную
тень.
Я счастлива, что ты, которая не любит Исаака, осталась
там, далеко от нас. Теперь нам с тобой легче любить друг друга.
2. Иерусалим, сентябрь 1968.
Доротка,
всего несколько строк: запомни раз и навсегда - ты
работаешь, потому что не умеешь жить. Если бы ты умела жить, ты
бы не работала и никакая наука для тебя бы не существовала. Но
все учили нас только тому, как работать, и никто - как жить. И
вот я не умею.
Исаак вернулся. Когда он одет, его шрамы не видны, он так
же красив, как и раньше, и похож на пса, который научился петь
краковяк. Он любит мою правую грудь больше, чем левую, и мы
спим совершенно непристойно... Давай договоримся так: поделим
роли, ты там, в Кракове, продолжай заниматься наукой, а я буду
здесь учиться жить.
3. Хайфа, март 1971.
Дорогая и не забытая мною Доротея,
давно я тебя не видела, и кто знает, смогла ли бы узнать.
Может, и ты меня больше не узнала бы, может, ты обо мне больше
и не думаешь в нашей квартире, где дверные ручки цепляются за
рукава. Я вспоминаю польские леса и представляю себе, как ты
бежишь через вчерашний дождь, капли которого лучше слышны,
когда падают не с нижних, а с верхних веток. Я вспоминаю тебя
девочкой и вижу, как ты растешь быстро, быстрее, чем твои ногти
и волосы, а вместе с тобой, но только еще быстрее, растет в
тебе ненависть к нашей матери. Неужели мы должны были ее так
ненавидеть? Здешний песок вызывает во мне страстное желание, но
я уже долгое время чувствую себя с Исааком странно. Это не
связано ни с ним, ни с нашей любовью. Это связано с чем-то
третьим. С его раной. Он читает в постели, я лежу рядом с ним в
палатке и гашу свет, когда чувствую, что хочу его. Несколько
мгновений он остается неподвижным, продолжает в темноте
смотреть в книгу, и я ощущаю, как его мысли галопом несутся по
невидимым строчкам. А потом он поворачивается ко мне. Но стоит
нам прикоснуться друг к Другу, как я чувствую страшный шрам от
его раны. Мы занимаемся любовью, а потом лежим, глядя каждый в
свой мрак, и несколько вечеров назад я спросила его: - Это было
ночью?
- Что? - спросил он, хотя знал, о чем я говорю.
- Когда тебя ранили.
- Это было ночью.
- И ты знаешь чем?
- Не знаю, но думаю, что это был штык.
4. Иерусалим, октябрь 1974.
Дорогая Доротка,
я читаю о славянах, как они спускались к морям с копьем в
сапоге. И думаю о том, как меняется Краков, осыпанный новыми
ошибками в правописании и языке, сестрами развития слова. Я
думаю о том, как ты остаешься той же, а я и Исаак все больше
меняемся. Я не решаюсь ему сказать. Когда бы мы ни занимались
любовью, как бы нам ни было хорошо и что бы мы при этом ни
делали, я грудью и животом все время чувствую след от того
штыка. Я чувствую его уже заранее, этот след вытягивается между
мною и Исааком в нашей постели. Неужели возможно, чтобы человек
за один миг смог расписаться штыком на теле другого человека и
навсегда вытатуировать свой след в чужом мясе? Эта рана похожа
на какой-то рот, и стоит нам, Исааку и мне, дотронуться друг до
друга, как к моей груди прикасается этот шрам, похожий на
беззубый рот. Я лежу возле Исаака и смотрю на то место в
темноте, где он спит. Запах клевера заглушает запах конюшни. Я
жду, когда он повернется - сон становится тонким, когда человек
поворачивается, - тогда я смогу его разбудить, и ему не будет
жалко. Есть сны бесценные, а есть и другие, как мусор. Я бужу
его и спрашиваю: - Он был левша?
- Кажется, да, - отвечает он мне сонно, но твердо, из чего
мне ясно, что он знает, о чем я думаю. - Его взяли в плен и
утром привели в мою палатку. Он был бородатым, с зелеными
глазами и ранен в голову. Его привели, чтобы показать мне эту
рану. Ее нанес я. Прикладом.
5. Снова Хайфа, сентябрь 1975.
Доротка,
ты и не сознаешь, какая ты счастливица, что там, у себя на
Вавеле, не знаешь этого ужаса, в котором я живу. Представь
себе, что в постели, когда ты обнимаешь своего мужа, тебя
кусает и целует ктото другой. Между Исааком и мной лежит и
всегда будет лежать какойто бородатый сарацин с зелеными
глазами! Он откликается на каждое мое движение раньше Исаака,
потому что он ближе к моему телу, чем тело Исаака. И этот
сарацин не выдумка! Этот скот-левша, и он больше любит мою
левую грудь, чем правую! Какой ужас, Доротка! Ты не любишь
Исаака, как я, скажи мне, как объяснить ему все это? Я оставила
тебя и Польшу и приехала сюда ради Исаака, а в его объятиях
встретила зеленоглазое чудовище, оно просыпается ночью, кусает
меня беззубым ртом и хочет меня всегда. Исаак иногда заставляет
меня кончать на этом арабе. Он всегда тут! Он всегда может...
Наши стенные часы, Доротка, этой осенью спешат, а весной
они будут отставать...
6. Октябрь 1978.
Доротея,
араб насилует меня в объятиях моего мужа, и я больше уже
не знаю, с кем я наслаждаюсь в своей постели. Из-за этого
сарацина муж кажется мне иным, чем раньше, я теперь вижу и
понимаю его поновому, и это невыносимо. Прошлое внезапно
переменилось: чем больше наступает будущее, тем сильнее
изменяется прошлое, оно становится опаснее, оно непредсказуемо,
как завтрашний день, в нем на каждом шагу закрытые двери, из
которых все чаще выходят живые звери. И у каждого из них свое
имя. У того зверя, который разорвет Исаака и меня, имя
кровожадное и длинное. Представляешь, Доротка, я спросила
Исаака, и он мне ответил. Он это имя знал все время. Араба
зовут Абу Кабир Муавия**. И свое дело он уже начал как-то
ночью, в песке, недалеко от водопоя. Как и все звери.
7. Тель-Авив, 1 ноября 1978.
Дорогая, забытая Доротка,
ты возвращаешься в мою жизнь, но при ужасных
обстоятельствах. Там, в твоей Польше, среди туманов таких
тяжелых, что они тонут в воде, ты и не представляешь себе, что
я тебе готовлю. Пишу тебе из самых эгоистических соображений. Я
часто думаю, что лежу с широко открытыми глазами в темноте, а
на самом деле в комнате горит свет и Исаак читает, а я лежу,
закрыв глаза. Между нами в постели по-прежнему этот третий, но
я решилась на маленькую хитрость. Это трудно, потому что поле
боя ограничено телом Исаака. Уже несколько месяцев я бегу от
губ араба, передвигаюсь по телу моего мужа справа налево. И вот
когда я уже решила, что выбралась из западни, на другом краю
Исаакова тела налетела на засаду. На еще одни губы араба. За
ухом Исаака, под волосами я наткнулась на второй шрам, и мне
показалось, что Абу Кабир Муавия запихал мне в рот свой язык.
Ужас! Теперь я действительно в западне-если я сбегаю от одних
его губ, меня ждут вторые, на другом краю тела Исаака. Что мне
думать об Исааке? Я не могу больше ласкать его - от страха, что
мои губы встретятся с губами сарацина. Вся наша жизнь теперь
проходит под его знаком. Смогла бы ты в таких условиях иметь
детей? Но самое страшное случилось позавчера. Один из этих
сарацинских поцелуев напомнил мне поцелуй нашей матери. Сколько
лет я не вспоминала ее, и теперь вдруг она напомнила о себе. И
как! Пусть не похваляется тот, кто обувается так же, как тот,
кто уже разулся, но как это пережить?
Я прямо спросила Исаака, жив ли еще египтянин. И что, ты
думаешь, он ответил? Жив и даже работает в Каире. Его шаги, как
плевки, тянутся за ним по свету. Заклинаю тебя: сделай
что-нибудь! Может быть, ты спасла бы меня от этого незваного
любовника, если бы отвлекла его похоть на себя, ты бы спасла и
меня, и Исаака. Запомни это проклятое имя-Абу Кабир Муавия,- и
давай возьмем каждая свое: ты бери этого леворукого араба в
свою постель в Кракове, а я попытаюсь сохранить для себя
Исаака.
8
Department of Slavic studies
University of Yale USA
October 1980.
Дорогая мисс Квашневская,
пишет тебе твоя д-р Шульц. Я пишу в перерыве между двумя
лекциями. У нас с Исааком все в порядке. Уши мои еще полны его
засушенных поцелуев. Мы почти помирились, и теперь наши постели
на разных континентах. Я много работаю. После почти
десятилетнего перерыва я снова участвую в научных конференциях.
И скоро мне опять предстоит поездка, на этот раз ближе к тебе.
Через два года в Царьграде состоится научная конференция по
вопросам Черноморского побережья. Я готовлю доклад. Ты помнишь
профессора Wyke и твою дипломную работу "Жития Кирилла и
Мефодия, славянских просветителей"? Помнишь исследование
Дворника, которым мы тогда пользовались? Сейчас он выпустил
второе, дополненное издание (1969), и я его буквально
проглотила, настолько оно интересно. В моей работе речь пойдет
о хазарской миссии Кирилла * и Мефодия *, той самой, важнейшие
сведения о которой - записи самого Кирилла - утеряны.
Неизвестный составитель жития Кирилла пишет, что свою
аргументацию в хазарской полемике *** Кирилл оставил при дворе
кагана в особых книгах, так называемых "Хазарских проповедях".
"Кто хочет найти полностью эти проповеди, -отмечает биограф
Кирилла,-найдет их в книгах Кирилла, которые перевел учитель
наш и архиепископ Мефодий, брат Константина Философа, поделив
их на восемь проповедей". Просто невероятно, что целые книги,
восемь проповедей христианского святого и создателя славянской
письменности, написанные на греческом и переведенные на
славянский язык, исчезли без следа! Не потому ли, что в них
было слишком много еретического? Не было ли в них
иконоборческой окраски, что было полезно в полемике, но не
соответствовало догматам, из-за чего потом их и изъяли из
употребления? Я еще раз перелистала Ильинского, всем нам хорошо
известный "Обзор систематизированной библиографии Кирилла и
Мефодия" до 1934 года, а потом его продолжателей (Попруженко,
Романского, Петковича и т. д.). Снова прочла Мошина. И потом
перечитала всю приведенную там литературу о хазарском вопросе.
Но нигде нет упоминания о том, что "Хазарские проповеди" особо
привлекли чье-то внимание. Как могло получиться, что все
бесследно исчезло? Этот вопрос все оставляют без внимания. А
ведь существовал не только греческий канонический текст, но и
славянский перевод, из чего можно сделать вывод, что это
произведение некоторое время имело очень широкое хождение.
Причем не только в хазарской миссии, но и позже; его
аргументация должна была бы использоваться и в славянской
миссии братьев из Салоник, и даже в полемике со сторонниками
"трехъязычия". Иначе зачем бы им было переводить это на
славянский язык? Я думаю, что наверное можно напасть на след
"Хазарских проповедей" Кирилла, если искать методом
сопоставления. Если систематически пересмотреть исламские и
еврейские источники о хазарской полемике, наверняка там
что-нибудь да всплывет о "Хазарских проповедях". Но дело в том,
что я не могу сделать это сама, это вообще не по силам одним
славистам, нужно участие и востоковедов, и специалистов по
древней еврейской культуре, Я посмотрела у Dunlop'a (History of
Jewish Khazars, 1954), но и там нет ничего, что могло бы
навести на след утраченных "Хазарских проповедей" Константина
Философа.
Видишь, не только ты в своем Ягеллонском университете
занимаешься наукой, я здесь тоже. Я вернулась к своей
специальности, к своей молодости, которая по вкусу похожа на
фрукты, доставленные пароходом с другого берега океана. Я хожу
в соломенной шляпе вроде корзинки. В ней можно, не снимая ее с
головы, принести с рынка черешню. Я 'старею всякий раз, как в
Кракове бьет полночь на городских часах, и просыпаюсь, когда
над Вавелем раздается звон часов. Я завидую твоей вечной
молодости. Как поживает твой Абу Ка-бир Муавия? Действительно
ли у него, как в моих снах, два копченых сухих уха и хорошо
выжатый нос? Спасибо, что ты его взяла на себя. Вероятно, ты
уже все знаешь о нем. Представь, он занят делом, весьма близким
к тому, чем занимаемся мы с тобой! Мы с ним работаем почти что
в одной области. Он преподает в Каирском университете
сравнительную историю религий Ближнего Востока и занимается
древнееврейской историей. Ты с ним мучаешься так же, как и я?
Любящая тебя д-р Шульц.
9. Иерусалим, январь 1981.
Доротка,
произошло невероятное. Вернувшись из Америки, я нашла в
нераспечатанной почте список участников той самой конференции о
культурах Черноморского побережья. Ты себе не представляешь,
кого я увидела в этом списке! А может, ты это узнала раньше
меня благодаря своей провидческой душе, которой не требуется
парикмахерская завивка? Араб, собственной персоной, тот самый,
с зелеными глазами, который изгнал меня из постели моего мужа.
Он будет на конференции в Царьграде. Однако не хочу вводить
тебя в заблуждение. Он приедет не для того, чтобы повидаться со
мной. Но я еду в Царьград, чтобы наконец-то его увидеть. Я уже
давно рассчитала, что наши профессии близки настолько, что
достаточно просто участвовать в научных конференциях, чтобы в
конце концов пересеклись и наши пути. В моей сумке лежит доклад
о хазарской миссии Кирилла и Мефодия, а под ним - S&W модель
36, калибр 38. Спасибо тебе за напрасные попытки взять на себя
д-ра Абу Кабира Муавию. Теперь я беру его на свою душу. Люби
меня так же, как ты не любишь Исаака. Сейчас мне это нужнее,
чем когда бы то ни было. Наш общий отец нам поможет...
10. Царьград, отель "Кингстон", 1 октября 1982.
Дорогая Доротея,
наш общий отец мне поможет, так я написала тебе в
последний раз. Что ты знаешь о нашем общем отце, бедная моя
глупышка? В твоем возрасте и я ничего не знала, так же как ты
сейчас. Но моя новая жизнь дала мне время, чтобы думать. Знаешь
ли ты, кто твой настоящий отец, детка? Ты думаешь, тот самый
поляк с бородой, похожей на пук травы, который дал тебе фамилию
Квашневская и отважился жениться на твоей матери, Анне Шолем?
Думаю, что нет. Попытайся вспомнить того, кого мы не могли
никак запомнить? Помнишь некоего Шолема Ашкенази, юношу на
фотографиях, с криво сидящими на носу очками и с другой их
парой, торчащей из жилетки. Того, который курит вместо табака
чай и у которого красивые волосы налезают на сфотографированные
уши. Того, который, как нам рассказывали, говорил, что "нас
спасет наша мнимая жертва". Помнишь брата и первого мужа нашей
матери, Анны Шолем, псевдоЗакевич в девичестве, Шолем по
первому и Квашневскую по второму мужу? И знаешь ли ты, кто был
первым отцом ее дочерей, твоим и моим? Ну, вспомнила наконец
через столько лет? Твой дядя и брат матери прекрасно мог быть и
нашим отцом, не правда ли? А почему, собственно, им не мог бы
быть муж твоей матери? Что ты думаешь о таком раскладе, дорогая
моя? Может быть, госпожа Шолем не имела мужчин до брака и не
могла повторно выйти замуж девушкой? Возможно, поэтому она
напоминает о себе таким неожиданным образом, неся с собой ужас.
Как бы то ни было, ее старания не пропали даром, и я думаю, что
моя мать, если и сделала так, была права тысячу раз, и если я
могу выбирать, то я выбираю отцом охотнее, чем кого бы то ни
было, брата моей матери. Несчастье, дорогая моя Доротея,
несчастье учит нас читать нашу жизнь в обратном направлении...
Здесь, в Царьграде, я уже кое с кем познакомилась. Мне не
хочется показаться кому-то странной, и я болтаю со всеми, не
закрывая рта. Один из моих коллег, приехавший на эту
конференцию,доктор Исайло Сук **. Он археолог, медиевист,
прекрасно знает арабский, мы говорим с ним по-немецки, шутим
по-польски, потому что он знает сербский и считает себя молью
собственного платья. Его семья уже сто лет переселяет из дома в
дом одну и ту же изразцовую печь, а он считает, что XXI век
будет отличаться- от нашего тем, что люди наконец-то единодушно
восстанут против скуки, которая сейчас затопляет их, как
грязная вода. Камень скуки, говорит д-р Сук, мы несем на плечах
на огромный холм, подобно Сизифу. Наверное, люди будущего
соберутся с духом и восстанут против этой чумы, против скучных
школ, скучных книг, против скучной музыки, скучной науки,
скучных встреч, и тогда они исключат тоску из своей жизни, из
своего труда, как этого и требовал наш праотец Адам. Говорит он
это не совсем серьезно, а когда пьет вино, не позволяет
доливать в свой бокал, потому что, считает он, бокал не кадило,
чтобы добавлять в него прежде, чем он иссяк. По его учебникам
учатся во всем мире, но он сам преподавать по ним не может. Он
должен преподавать в университете что-то другое. Его
исключительные знания в своей области никак не соответствуют
его крайне незначительному научному авторитету. Когда я ему
сказала об этом, он улыбнулся и объяснил мне это так:
- Дело в том, что вы можете стать великим ученым или
великим скрипачом (а знаете ли вы, что все великие скрипачи,
кроме Паганини, были евреями?), только если вас поддержит и
встанет за спиной у вас и ваших достижений один из мощных
интернационалов современного мира. Еврейский, исламский или
католический интернационал. Вы принадлежите к одному из них. Я
ни к какому, поэтому я и неизвестен. Между моими пальцами давно
уже проскочили все рыбы.
- О чем это вы говорите? - спросила я его изумленно. - Это
парафраз одного хазарского текста, примерно тысячелетней
давности. А вы, судя по названию доклада, который вы нам
прочтете, весьма осведомлены о хазарах. Почему же вы тогда
удивляетесь? Или вы никогда не встречали издание Даубмануса?
Должна признаться, что он меня смутил. Особенно когда
упомянул "Хазарский словарь" Даубмануса. Если такой словарь
когда-либо и существовал, ни один экземпляр его, насколько мне
известно, не сохранился.
Дорогая Доротка, я вижу снег в Польше, вижу, как снежинки
превращаются в твоих глазах в слезы. Вижу хлеб, насаженный на
шест со связкой лука, и птиц, которые греются в дыме над
домами. Д-р Сук говорит, что время приходит с юга и переходит
Дунай на месте Траянова моста. Здесь нет снега, и облака похожи
на остановившиеся волны, которые выбрасывают рыбу. Д-р Сук
обратил мое внимание еще на одно обстоятельство. В нашем отеле
остановилась чудесная бельгийская семья, их фамилия Ван дер
Спак. Семья, какой у нас никогда не было и какой не будет у
меня. Отец, мать и сын. Д-р Сук называет их "святое семейство".
Каждое утро во время завтрака я наблюдаю, как они едят; все они
упитаны, а господин Спак, как я случайно слышала, однажды в
шутку сказал: на толстую кошку блоха не пойдет... Он прекрасно
играет на каком-то инструменте, сделанном из панциря белой
черепахи, а бельгийка занимается живописью. Рисует она левой
рукой, и при этом очень хорошо, на всем, что ей попадается: на
полотенцах, стаканах, ножах, на перчатках своего сына. Их
мальчику года четыре. У него коротко подстриженные волосы,
зовут его Мануил, и он только недавно научился составлять свои
первые фразы. Съев булочку, он подходит к моему столу и
застывает, глядя на меня так, как будто влюблен. Глаза его в
пятнышках, напоминающих мелкие камешки на тропинке, и он
постоянно спрашивает меня: "Ты меня узнала?" Я глажу его по
голове, словно глажу птицу, а он целует мне пальцы. Он приносит
мне трубку своего отца, похожего на цадика, и предлагает
покурить. Ему нравится все красного, голубого и желтого цветов.
И он любит есть все, что этого цвета. Я ужаснулась, когда
заметила один его физический недостатокна каждой руке у него по
два больших пальца. Никогда не могу разобрать, какая рука у
него правая, а какая левая. Но он еще не понимает, как
выглядит, и не прячет от меня свои руки, хотя родители все
время надевают ему перчатки. Иногда, не знаю, поверишь ли ты,
мне это совсем не мешает и перестает казаться чем-то
неестественным.
Да может ли мне вообще что-то мешать, если сегодня утром
за завтраком я услышала, что на конференцию прибыл и д-р Абу
Кабир Муавия. "...Мед источают уста чужой жены, и мягче елея
речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как
меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают
преисподней". Так написано в Библии.
11. Царьград, 8 октября 1982.
Мисс Доротее Квашневской - Краков.
Я потрясена твоим эгоизмом и безжалостностью приговора. Ты
уничтожила и мою жизнь, и жизнь Исаака. Я всегда боялась твоей
науки и предчувствовала, что она несет мне зло. Надеюсь, ты
знаешь, что случилось и что ты наделала. В то утро я вышла
завтракать, твердо решив стрелять в Муавию, как только он
появится во внутреннем садике отеля, где мы завтракаем. Я
сидела и ждала; наблюдала, как тени птиц, пролетающих над
гостиницей, стремительно скользят по стене. И тогда случилось
то, чего никоим образом нельзя было предусмотреть. Появился
человек, и я сразу поняла, кто это. Лицо его было темным, как
хлеб, волосы с сединой, будто у него в усах застряли рыбьи
кости. Только на виске из шрама растет пучок диких, совершенно
черных волос, они у него не седеют. Д-р Муавия подошел прямо к
моему столу и попросил разрешения сесть. Он заметно хромал, и
один его глаз был прищурен, как маленький закрытый рот. Я
замерла, потом в сумке сняла с предохранителя револьвер и
оглянулась. В саду кроме нас был только один четырехлетний
Мануил; он играл под соседним столом.
- Разумеется, - сказала я, и человек положил на стол
нечто, что навсегда изменило мою жизнь. Это была стопка бумаг.
- Я знаю тему вашего доклада, - так сказал он садясь, - и
именно поэтому хотел проконсультироваться по одному вопросу,
связанному с ней.
Мы говорили по-английски, у него немного стучали зубы, ему
было холоднее, чем мне, губы его тряслись, но он ничего не
делал, чтобы унять дрожь. Он грел пальцы о свою трубку и вдувал
дым в рукава. Вопрос его касался "Хазарских проповедей" Кирилла
и Мефодия.
- Я просмотрел, - сказал он, - всю литературу, которая
относится к "Хазарским проповедям", и нигде не нашел никакого
упоминания о том, что эти тексты дошли до наших дней. Отрывки
из "Хазарских проповедей" Кирилла сохранились и даже были
напечатаны несколько сотен лет назад, и мне представляется
невероятным, что никто об этом не знает.
Я была потрясена. То, что утверждает этот человек, могло
было бы стать крупнейшим открытием в моей области - славистике
- за все время ее существования. Если это действительно так.
- Почему вы так думаете? - спросила я его, пораженная, и
не очень уверенно изложила ему свое мнение по этому вопросу. -
"Хазарские проповеди" Кирилла, - сказала я, - науке неизвестны,
о них лишь упоминается в житии Кирилла, откуда мы и знаем, что
они существовали. О какой-то сохранившейся рукописи или же об
опубликованном тексте этих проповедей смешно говорить.
- Это-то я и хотел проверить, - проговорил д-р Муавия, - с
настоящего момента будет известно, что верно совершенно
обратное...
И он протянул мне те самые бумаги - ксерокопии, - которые
лежали перед ним. Передавая мне эту пачку, он на мгновение
прикоснулся своим большим пальцем к моему, и от этого
прикосновения у меня по телу пробежали мурашки. У меня было
такое чувство, что наше прошлое и настоящее сконцентрировалось
в наших пальцах и соприкоснулось. Когда я спросила д-ра Муавию,
как они к нему попали, он ответил нечто такое, что привело меня
в еще большее изумление:
- Важно вовсе не то, как они ко мне попали. В XII веке они
оказались в руках вашего соплеменника, поэта Иуды Халеви, он
внес их в свой трактат о хазарах. Описывая известную полемику,
он привел слова ее христианского участника, называя его
"философом", то есть так же, как это лицо называет и автор
жития Кирилла в связи с той же полемикой. Таким образом, имя
Кирилла в этом еврейском источнике не названо, как и имя
арабского участника, приводится только звание христианского
участника - Кирилла, а это и есть причина того, что до сих пор
никто не искал текст Кирилла в хазарской хронике Иуды Халеви.
Я смотрела на д-ра Муавию, и мне казалось, что он не имеет
никакого отношения к тому раненому человеку с зелеными глазами,
который несколько мгновений назад сел за мой стол. Все было
настолько убедительно и ясно, так соответствовало уже известным
науке фактам, что просто удивительно, почему раньше никому не
пришло в голову искать этот текст таким способом.
- Здесь имеется одна неувязка, - сказала я наконец д-ру
Муавии, - текст Халеви относится к VIII веку, а хазарская
миссия Кирилла была в девятом столетии: в 861 году.
- Тот, кто знает истинный путь, может идти и в обход! -
заметил на это Муавия.- Нас интересуют не даты, а то, были ли у
Халеви, который жил позже Кирилла, под рукой его "Хазарские
проповеди", когда он писал свою книгу о хазарах. И использовал
ли он их в этой книге, там, где он приводит слова христианского
участника хазарской полемики. Скажу сразу, в словах
христианского мудреца у Халеви есть несомненные совпадения с
теми аргументами Кирилла, которые дошли до нас. Мне известно,
что вы переводили на английский житие Кирилла, и, конечно, вы
сможете без труда узнать отдельные фрагменты, Послушайте меня и
скажите, чей, например, это текст, в котором говорится о том,
что человек занимает место посередине между ангелами и
животными...
Разумеется, я тут же вспомнила это место и привела его
наизусть: - "Бог, создавший свет, создал человека между ангелом
и животным, речью и разумом отделив его от животных, а гневом и
похотью от ангелов, и через эти свойства он и приближается или
к высшим или к низшим". Это, - заметила я, цитируя текст, -
часть жития об агарянской миссии Кирилла.
- Совершенно верно, но точно то же мы встречаем и в пятой
части книги Халеви, где он полемизирует с Философом. Есть и
другие совпадения. Самое же важное то, что в самой речи,
которую в хазарской полемике Халеви приписывает христианскому
ученому, рассматриваются вопросы, которые Кирилл, как видно из
жития, обсуждал во время полемики. В обоих текстах говорится о
Святой Троице и законах, существовавших до Моисея, о запретах
на некоторые виды мяса и, наконец, о врачах, которые лечат
противно тому, как нужно. Приводится тот же аргумент, что душа
сильнее всего тогда, когда тело самое слабое (около
пятидесятого года жизни) и т. д. Наконец, хазарский каган
упрекает арабского и еврейского участников полемики - все это
согласно Халеви,- что их книги откровений (Коран и Тора)
написаны на языках, ничего не значащих для хазар, индусов и
других народов, которые их не понимают. Это один из
существенных аргументов, который приводится и в житии Кирилла,
когда речь идет о борьбе против сторонников трехъязычия (то
есть тех, кто считал языками богослужения только греческий,
древнееврейский и латинский), так что ясно, что в этом вопросе
каган был под влиянием христианского участника полемики и
выдвигал доводы, о которых мы и от другой стороны знаем, что
они принадлежат действительно Кириллу. Халеви это только
пересказал.
Наконец, нужно обратить внимание еще на две вещи.
Вопервых, мы не знаем всего, что содержалось в потерянных
"Хазарских проповедях" Константина Солунского (Кирилла), и не
знаем, что из этого передано в тексте Халеви. Значит, можно
предположить, что такого материала имеется больше, чем я здесь
привел. Второе: целостность текста Халеви, именно в той его
части, которая относится к христианскому участнику полемики,
серьезно нарушена. Эта часть не сохранилась в арабском
источнике, она имеется только в появившемся позже еврейском
переводе, в то время как напечатанные издания Халеви, особенно
те, которые относятся к XVI веку, подвергались, как известно,
цензуре христианской церкви.
Короче говоря, книга Халеви о хазарах донесла до нас, хотя
мы сегодня не знаем, в каком объеме, часть "Хазарской
проповеди" Кирилла. Впрочем, здесь, в Царьграде, - закончил д-р
Муавия,- в нашей конференции будет участвовать и некий д-р
Исайло Сук, который хорошо говорит по-арабски и занимается
исламскими источниками о хазарской полемике. Он мне сказал, что
у него имеется хазарский словарь XVII века, который издал некий
Даубманус, и что из этого словаря видно, что Халеви использовал
"Хазарские проповеди" Кирилла. Я пришел попросить вас
поговорить с д-ром Суком. Со мной он говорить вряд ли станет.
Его интересуют только арабы, жившие тысячу лет назад или
раньше. Для остальных у него нет времени. Не поможете ли вы мне
познакомиться с д-ром Суком и прояснить эту проблему...
Так закончил свой рассказ д-р Абу Кабир Муавия, и в моем
мозгу мгновенно связались все нити. Когда забываешь, в каком
направлении истекает время, определить это помогает любовь. Из
нее время всегда вытекает. Спустя столько лет опять охватила
меня твоя проклятая страсть к науке, и я предала Исаака. Вместо
того чтобы стрелять, я побежала искать д-ра Сука, оставив свои
бумаги и под ними оружие. У входа не было никого из прислуги,
на кухне кто-то обмакивал кусок хлеба в огонь и ел его. Я
увидела Ван дер Спака, который выходил из комнаты, и поняла,
что это комната д-ра Сука. Я постучала, но никто не отозвался.
Где-то у меня за спиной часто капали шаги, а между ними я
чувствовала жар женского тела. Я постучала опять, и тогда от
моего стука дверь слегка приоткрылась.'0нане была закрыта на
ключ. Сначала я увидела только ночной столик и на нем блюдечко,
в котором лежали яйцо и ключ. Открыв дверь шире, я вскрикнула.
Д-р Сук лежал в постели, задушенный подушкой. Он лежал закусив
усы, будто спеша навстречу ветру. Я с криком бросилась бежать,
и тут из сада послышался выстрел. Выстрел был один, но я
слышала его каждым ухом отдельно. Я сразу же узнала звук своего
револьвера. Влетев в сад, я увидела, что д-р Муавия лежит на
дорожке с размозженной головой... За соседним столом ребенок в
перчатках пил свой шоколад, будто ничего не произошло... Больше
никого в саду не было.
Меня сразу же арестовали. Смит-Вессон, на котором найдены
только мои отпечатки пальцев, приложен в качестве улики, и меня
обвиняют в преднамеренном убийстве д-ра Абу Кабира Муавии. Это
письмо я пишу тебе из следственной тюрьмы и все еще ничего не
могу понять. Источник сладкой воды в устах своих ношу и меч
обоюдоострый... Кто убил д-ра Муавию? Представляешь, обвинение
гласит: еврейка убила араба из мести! Весь исламский
интернационал, вся египетская и турецкая общественность
восстанут против меня. "Поразит перед тобою Господь врагов
твоих, восстающих против тебя; одним путем они выступят против
тебя, а семью путями побегут от тебя". Как доказать, что ты не
сделал того, что действительно собирался сделать? Нужно найти
жестокую ложь, ложь страшную и сильную, как отец дождя, чтобы
доказать истину. Рога вместо глаз нужны тому, кто хочет
выдумать такую ложь. Если найду ее, останусь жить и заберу тебя
из Кракова к себе в Израиль, опять вернусь к наукам нашей
молодости. Спасет нас наша мнимая жертва - так говорил один из
двух наших отцов... Как тяжело выдержать милость Его, а тем
более гнев.
Стамбул,
18 октября 1982
Вирджиния Атех, официантка в ресторане отеля "Кингстон",
свидетель по делу госпожи Дороты Шульц, сделала на суде
следующее заявление:
"В тот день, 2 октября 1982 года, погода была солнечной. Я
чувствовала сильное волнение. Струи соленого воздуха тянулись с
Босфора, и вместе с ними, извиваясь, как змеи, в медленные
мысли проникали быстрые мысли. Сад отеля "Кингстон", где в
хорошую погоду накрывают столы, имеет четырехугольную форму.
Один угол солнечный, в другом-есть немного плодородной земли с
цветами, в третьем - всегда ветрено, а в четвертом углу
находится каменный колодец и рядом с ним столб. Я обычно стою
за этим столбом, потому что знаю, что гости не любят, чтобы на
них смотрели, когда они едят. Это и неудивительно. Я, например,
стоит мне только посмотреть, как гость завтракает, знаю сразу,
что яйцо всмятку нужно ему для того, чтобы перед обедом сходить
выкупаться, рыба - для того, чтобы вечером прогуляться до
Топчисарая, а стакан вина даст ему энергию для улыбки перед
сном, улыбки, которая не достигнет близоруких гостиничных
зеркал. С этого места возле колодца видна и лестница, ведущая в
сад, так что всегда знаешь, кто приходит, кто уходит. Есть
здесь и еще одно преимущество. Так же как вода из всех
ближайших водосточных труб сливается в колодец, в него стекают
и все голоса из сада, и если приблизить ухо к отверстию
колодца, можно совершенно ясно слышать каждое слово,
произнесенное в саду. Слышно даже, как птица клювом схватила
мошку и как треснула скорлупа на вареном яйце, можно различить,
как перекликаются вилки, все одинаковыми голосами, и
бокалы-каждый своим. Из разговоров гостей всегда ясно, зачем
они собираются позвать официанта, и я всегда могу удовлетворить
их желания еще до того, как они мне их выскажут, ведь я все
слышу через колодец. А знать что-то хоть и на несколько
мгновений раньше других - это большое преимущество и всегда
приносит пользу. В то утро первыми в сад спустились гости из
номера 18, семья Ван дер Спак, бельгийцы, отец, мать и сын.
Отец уже в годах, прекрасно играет на каком-то инструменте,
сделанном из панциря белой черепахи, по вечерам из их номера
часто была слышна музыка. Он немного странный и всегда ест
собственной вилкой с двумя зубцами, которую носит в кармане.
Мать - молодая, красивая женщина, по этой причине я ее более
пристально рассматривала. Вот почему я заметила и один
недостаток в ее внешности - у нее была только одна ноздря.
Каждый день она отправлялась в Ай-Софию и там делала прекрасные
копии настенной живописи. Я спросила, не служат ли ее картины
нотными записями песен мужа, но она меня не поняла. Ее сын,
ребенок лет трех-четырех, тоже.
Обвинитель: "Тогда я подумала: вот сейчас у тебя есть
галстук". Я хочу перед судом выразить мое глубочайшее
негодование тем, как даются показания свидетелем. А кто вы по
национальности, мадемуазель или мадам Атех?
Свидетель: Это трудно объяснить.
Обвинитель: Постарайтесь, будьте добры.
Свидетель: Я хазарка.
Обвинитель: Как вы сказали? Я не слышал о таком народе.
Какой у вас паспорт? Хазарский?
Свидетель: Нет, израильский.
Обвинитель: Прекрасно. Это-то я и хотел услышать. Как же
так - хазарка и с израильским паспортом? Вы изменили вашему
народу?
Свидетель (смеется): Нет, скорее наоборот. Хазары
переродились в евреев, и я вместе с другими приняла иудаизм и
получила израильский паспорт. Что мне делать одной на свете?
Если бы все арабы стали евреями, разве вы остались бы арабом?
Обвинитель: Комментарии не требуются, кроме того, вопросы
здесь задаете не вы. Ваши показания вымышлены, для того чтобы
помочь обвиняемой, вашей соотечественнице. У меня больше нет
вопросов. Надеюсь, что и у присяжных..."
После этого суд заслушал семью Ван дер Спак из Бельгии,
Они единодушно подчеркивали три вещи. Во-первых, рассказ о том,
что убийство якобы совершил трехлетний ребенок, лишено всякого
смысла. Во-вторых, следствием установлено, что доктор Муавия
убит из оружия, на котором найдены отпечатки пальцев одного
человека - госпожи Дороты Шульц. Следствием также установлено,
что упомянутое оружие (марки Смит-Вессон, модель 36, калибр
38), из которого был убит доктор Муавия, принадлежало госпоже
Шульц. Втретьих, госпожа Спак, главный свидетель обвинения,
утверждала, что госпожа Шульц имела причины для убийства
доктора Муавии, что она приехала в Стамбул убить доктора Муавию
и что она его и убила. В частности, в ходе следствия было
установлено, что доктор Муавия во время египетско-израильской
войны тяжело ранил супруга госпожи Дороты Шульц. Причины, таким
образом, ясны. Убийство из мести. Свидетельства официантки
ресторана отеля "Кингстон" не могут быть приняты во внимание
как недостоверные. На этом дело было закончено.
На основе приведенных материалов обвинитель потребовал
предъявить Дороте Шульц обвинение в предумышленном убийстве,
имеющем к тому же политические мотивы. Тогда перед судом
предстала обвиняемая. Госпожа Шульц сделала очень короткое
заявление. Она не виновата в смерти доктора Муавии. И это
утверждение она может подтвердить. У нее есть алиби. На вопрос
суда, что это за алиби, она ответила:
- В тот момент, когда был убит доктор Муавия, я убила
другого человека - доктора Исайло Сука. Я задушила его подушкой
в его комнате.
Следствием было установлено, что господина Ван дер Спака в
то утро тоже видели в комнате доктора Сука в тот момент, когда
наступила смерть, однако признание госпожи Шульц сняло с
бельгийца все обвинения.
Судебный процесс закончился, приговор вынесен. С госпожи
Шульц снято обвинение в том, что она преднамеренно, из мести
совершила убийство доктора Абу Кабира Муавии. Она осуждена за
убийство доктора Исайло Сука. Убийство доктора Муавии осталось
нераскрытым. Семья Ван дер Спак освобождена. Официантка
ресторана гостиницы "Кингстон" Вирджиния Атех приговорена к
денежному штрафу за попытку ввести суд в заблуждение и
направить следствие по ложному пути.
Госпожа Дорота Шульц отправлена отбывать наказание в
стамбульскую тюрьму сроком на шесть лет. Она пишет письма,
адресуя их на собственное имя, в Краков. Все ее письма
просматривают. Они всегда заканчиваются непонятной фразой:
"Наша мнимая жертва спасла нас от смерти".
Во время осмотра комнаты доктора Сука не обнаружено
никаких книг или бумаг. Найдено яйцо, разбитое с тупого конца.
Пальцы убитого запачканы желтком; значит, последнее, что он
делал в жизни,- разбивал яйцо. Найден и необычный ключ с
золотой головкой, который, как ни странно, подошел к замку
одной из комнат для обслуживающего персонала отеля "Кингстон".
Это комната официантки Вирджинии Атех.
На столе семейства Ван дер Спак найден приложенный к
следственному материалу счет, выписанный на обороте фирменного
бланка отеля. Вот он:
1689+293=1982.
Теперь раби Папо и Ицхак Нехама поняли, что души Коэна
поссорились из-за мешочков с рукописями, но их было так много,
что казалось невозможным пересмотреть все. Тогда раби Абрахам
спросил: - Думаешь ли ты о цвете этих чехлов то же, что и я?
- Разве не видно, что они того же цвета, что и пламя? -
заметил Нехама.- Посмотри на свечу. Ее пламя состоит из
нескольких цветов: голубой, красный, черный, этот трехцветный
огонь обжигает и всегда соприкасается с той материей, которую
он сжигает, с фитилем и маслом. Вверху, над этим трехцветным
огнем, второе белое пламя, поддерживаемое нижним, не обжигает,
но светит, то есть это огонь, питаемый огнем. Моисей на горе
стоял в этом белом пламени, которое не обжигает, а светит, а мы
стоим у подножия горы в трехцветном огне, пожирающем и
сжигающем все, кроме белого пламени, которое есть символ самой
главной и самой сокровенной мудрости. Попробуем же поискать то,
что мы ищем, в белых чехлах!
Книг было немного - все поместилось в одном мешке. Они
нашли там одно из изданий Иуды Халеви ****, опубликованное в
Базеле в 1660 году, с приложением перевода текста с арабского
на древнееврейский, автором которого был раби Иегуда Абен
Тибон, и комментариями издателя на латыни. В остальных чехлах
были рукописи Коэна...
Переглянувшись в полумраке, раби и Нехама пересмотрели
оставшиеся белые чехлы и не нашли в них ничего, кроме
нескольких десятков сложенных по алфавиту различных слов, то
есть то, что Коэн называл "Хазарским словарем" ("Lexicon
Cosri") и что, как они поняли, было сложенными в алфавитном
порядке сведениями о хазарах, об их вере, обычаях и обо всех
людях, связанных с ними, с их историей и их обращением в
иудаизм. Это был материал, похожий на тот, что за много веков
до Коэна обработал Иуда Халеви в своей книге о хазарах, однако
Коэн пошел дальше, чем Халеви, он попытался глубже войти в суть
вопроса о том, кто были неназванные в книге Халеви христианский
и исламский участники полемики ****. Коэн стремился узнать
имена этих двоих, их аргументы и восстановить их биографии для
своего словаря, который, как он считал, должен был охватить и
те вопросы, которые в еврейских источниках о хазарах остались
без внимания. Так в словаре Коэна оказались и наброски
жизнеописания одного христианского проповедника и миссионера,
очевидно, того самого, о котором Коэн расспрашивал иезуитов, но
они были очень скудны, там не было имени, которое Коэну не
удалось узнать, и этот материал нельзя было включить в словарь.
"Иуда Халеви,- записал Коэн в комментарии к этой незаконченной
биографии, - его издатели и другие еврейские комментаторы и
источники называют имя только одного из трех участников в
религиозной полемике при дворе хазарского кагана. Это еврейский
представитель - Исаак Сангари***, который истолковал хазарскому
правителю сон о явлении ангела. Имен остальных участников
полемики - христианского и исламского - еврейские источники не
называют, там говорится только, что один из них философ, а про
другого, араба, даже не сообщают, убили ли его до или после
полемики. Может быть, где-то на свете, - писал дальше Коэн,-
кто-то еще собирает документы и сведения о хазарах, так же как
это делал Иуда Халеви, и составляет такой же свод источников
или словарь, как это делаю я. Может быть, это делает кто-то,
принадлежащий к иной вере - христианин или приверженец ислама.
Может быть, где-то в мире есть двое, которые ищут меня так же,
как я ищу их. Может быть, они видят меня во снах, как и я их,
жаждут того, что я уже знаю, потому что для них моя истина -
тайна, так же как и их истина для меня - сокрытый ответ на мои
вопросы. Не зря говорят, что шестидесятая доля каждого сна -
это истина. Может, и я не зря вижу во сне Царьград и себя в
этом городе вижу совсем не таким, каков на самом деле, а ловко
сидящим в седле и с быстрой саблей, хромым и верующим не в того
бога, в которого верую я. В Талмуде написано: "Пусть идет,
чтобы его сон был истолкован перед троицей!" Кто моя троица? Не
рядом ли со мною и второй, христианский охотник за хазарами, и
третий, исламский? Не живут ли в моих душах три веры вместо
одной? Не окажутся ли две мои души в аду и лишь одна в раю? Или
же всегда, как и в книге о сотворении света, необходима троица,
а кто-то один недостаточен, и поэтому я не случайно стремлюсь
найти двух других, как и они, вероятно, стремятся найти
третьего. Не знаю, но я ясно прочувствовал, что три мои души
воюют во мне, и одна из них с саблей уже в Царьграде, другая
сомневается, плачет и поет, играя на лютне, а третья против
меня. Та, третья, еще не дает о себе знать или же никак не
может до меня добраться. Поэтому я вижу во снах только того
первого, с саблей, а второго, с лютней, не вижу. Рав Хисда
говорит: "Сон, который не истолкован, подобен письму, которое
не прочитано", я же переиначиваю это и говорю: "Непрочитанное
письмо подобно сну, который не приснился". Сколько же мне снов
послано, которые я никогда не получил и не увидел? Этого я не
знаю, но знаю, что одна из моих душ может разгадать
происхождение другой души, глядя на чело спящего человека. Я
чувствую, что частицы моей души можно встретить среди других
человеческих существ, среди верблюдов, среди камней и растений;
чей-то сон взял материал от тела моей души и строит из него
свой дом где-то далеко. Мои души для своего совершенства ищут
содействия других душ, так души помогают друг другу. Я знаю,
мой хазарский словарь охватывает все десять чисел и 22 буквы
еврейского алфавита; из них можно построить мир, но вот ведь я
этого не умею. Мне не хватает некоторых имен, и некоторые места
для букв из-за этого останутся незаполненными. Как бы я хотел,
чтобы вместо словаря с именами можно было взять только одни
глаголы! Но человеку это не дано. Потому что буквы, которые
составляют глаголы, происходят от Элохима, они нам неизвестны,
и они суть не человечьи, но божьи, и только те буквы, которые
составляют имена, те, что происходят из Геенны и от дьявола,
только они составляют мой словарь, и только эти буквы доступны
мне. Так что мне придется держаться имен и дьявола..."
- Баал халомот! - воскликнул раби Папо, когда они дошли до
этого места в бумагах Коэна.- Не бредит ли он? - Я думаю иначе,
- отвечал Нехама и загасил свечу.
- Что ты думаешь? - спросил раби Папо и загасил
светильник, причем души прошептали каждая свое имя и исчезли.
- Я думаю, - ответил Нехама в полной темноте, такой, что
мрак комнаты смешивался с мраком его уст, - я думаю, что ему
больше подойдет - Землин, Кавала или Салоники?
- Салоники, еврейский город? - удивился раби Папо. - Какой
может быть разговор об этом? Его нужно сослать в рудники в
Сидерокапси!
- Мы отправим его в Салоники к его невесте, - заключил
второй старец задумчиво, и они вышли, не зажигая свет.
Так на судьбе Самуэля Козна была поставлена печать. Он был
изгнан из Дубровника и, как можно понять из донесения
жандармов, простился со своими знакомыми "на день святого
Фомы-апостола в 1689 году, когда стояла такая засуха, что у
скота линяли хвосты, а весь Страдун был покрыт птичьими
перьями". В тот вечер госпожа Ефросиния надела мужские брюки и
вышла в город, как любая женщина. Коэн в тот вечер последний
раз шел от аптеки к палаццо Спонза, и она под аркой у Гаришта
бросила ему под ноги серебряную монету. Он поднял монету и
подошел к ней, в темноту. Сначала он вздрогнул, думая, что
перед ним мужчина, однако стоило ей до него дотронуться
пальцами, как он сразу же ее узнал.
- Не уходи, - сказала она ему, - с судьями все можно
уладить. Только скажи. Нет такой ссылки, которую нельзя было бы
заменить недолгим заключением в береговых тюрьмах. Я суну кому
надо несколько золотых эскудо в бороду, и нам не придется
расставаться.
- Я должен уйти не потому, что я изгнан, - ответил Коэн,-
для меня эти их бумаги значат не больше, чем птичий помет. Я
должен идти, потому что сейчас крайний срок. С детства я вижу
во сне, как во мраке бьюсь с кем-то на саблях и хромаю. Я вижу
сны на языке, которого я не понимаю наяву. С первого такого сна
прошло двадцать два года, и наступило время, когда сон должен
сбыться. Тогда все станет ясно. Или сейчас, или никогда. А
прояснится все только там, где я вижу себя во снах - в
Царьграде. Потому что не напрасно мне снятся эти кривые улицы,
проложенные так, чтобы убивать ветер, эти башни и вода под
ними...
- Если мы больше не встретимся в этой жизни, - сказала на
это госпожа Ефросиния, - мы встретимся в какой-нибудь другой,
будущей. Может, мы лишь корни душ, которые прорастут
когданибудь. Может, твоя душа носит в себе, как плод, мою душу
и однажды родит ее, но до того обе они должны пройти путь,
который им предопределен...
- Даже если это так, то в том будущем мире мы не узнаем
друг друга. Твоя душа-это не душа Адама, та, которая изгнана в
души всех следующих поколений и осуждена умирать снова и снова
в каждом из нас.
- Если не так, то встретимся как-нибудь по-другому. И я
тебе скажу, как ты меня узнаешь. Я буду тогда мужского пола, но
руки у меня останутся такими же - каждая с двумя большими
пальцами, так что обе могут быть и левой и правой...
С этими словами госпожа Ефросиния поцеловала Коэна в
перстень, и они расстались навек. Смерть госпожи Лукаревич,
которая последовала вскоре и была так ужасна, что даже воспета
в народных песнях, не могла бросить тень на Коэна, потому что
он в то время, когда госпожа Ефросиния умерла, и сам уже впал в
свое оцепенение, в сон без возвращения и пробуждения.
Сначала все думали, что Коэн отправится в Салоники к своей
невесте Лидисии и там на ней женится, как и рекомендовала ему
еврейская община в Дубровнике. Но он этого не сделал. В тот
вечер он набил трубку, а утром выкурил ее в стане требиньского
Саблякпаши, который готовился к походу на Валахию. Так Коэн
вопреки всему направился в сторону Царьграда. Но он туда
никогда не попал. Очевидцы из свиты паши, которых подкупили
дубровницкие евреи, предложив им растительных красок для льна
за то, что они расскажут им о конце Коэна, говорят следующее:
В тот год паша направлялся со своей свитой на север, а
облака над ними все время летели на юг, будто хотели унести их
память. Уже одно это было плохим знаком. Не спуская глаз со
своих собак, они неслись через пахучие боснийские леса, как
сквозь времена года, и влетели на постоялый двор под Шабацем в
ночь лунного затмения. Один из жеребцов паши сломал ноги на
Саве, и он призвал своего смотрителя кладбища лошадей. Коэн,
однако, спал так крепко, что не слыхал, как его зовут, и паша
ударил его кнутом между глаз с оттяжкой, будто тащит воду из
колодца, и гривны на его руке зазвенели. Коэн в тот же миг
вскочил и бегом отправился выполнять свои обязанности. После
этого события следы Коэна на некоторое время исчезают, потому
что из лагеря паши он уходит в Белград, который тогда находился
в руках австрийцев. Известно, что в Белграде он посещал
огромный трехэтажный дом турецких сефардов, наполненный
сквозняками, которые свистели по всем коридорам... Он
остановился на старом постоялом дворе, в одной из его сорока
семи комнат, который принадлежал тамошним немецким евреям по
фамилии Ашкенази, и тут нашел книгу о толковании снов,
написанную на ладино - испанско-еврейском языке, на котором
говорят евреи в странах Средиземноморья...
Когда отряд Сабляк-паши вышел к Дунаю, одной из четырех
райских рек, которая символизирует аллегорический пласт в
Библии, Коэн опять присоединился к нему... И как только
начались первые перестрелки с сербами и австрийцами, паша
приказал отлить на Джердапе пушку, которая смогла бы стрелять
на три тысячи локтей ядрами вдвое тяжелее обычных...
Когда пушка была готова, начался обстрел австрийских
позиций. Сабляк повел в атаку весь свой отряд, и на сербские
позиции обрушились все, включая и Коэна, который вместо сабли
имел при себе только мешок для овса, хотя в нем, как нам уже
известно, не было ничего ценного, только старые, мелко
исписанные листы бумаги в белых чехлах.
- Под небом, густым, как похлебка, - рассказывал очевидец,
- влетели мы на одну из позиций, где застали трех человек, все
остальные в панике бежали. Двое играли в кости, не обращая на
нас никакого внимания. Возле них перед шатром, словно в бреду,
лежал какой-то богато одетый всадник, и на нас напали только
его собаки. В мгновение ока наши изрубили одного из игроков и
копьем пригвоздили к земле спящего всадника. Он, уже
пронзенный, приподнялся на локте и посмотрел на Коэна, и тот от
этого взгляда упал как подстреленный, и из мешка посыпались его
бумаги. Паша спросил, что это с Коэном, не убит ли он, на что
другой игрок ответил по-арабски: - Если его зовут Коэн, то его
сразила не пуля. Его свалил сон... Оказалось, что это правда, и
странные слова спасли игроку жизнь ровно на один день.
Кончается сообщение о Самуэле Коэне, еврее из
дубровницкого гетто, рассказом о его последнем сне, тяжелом и
глубоком забытьи, в котором он потонул безвозвратно, как в
глубоком море. Последний рассказ о Самуэле Коэне услышал
требиньский Сабляк-паша от того игрока, жизнь которого пощадили
на поле боя. То, что он тогда сказал паше, останется навсегда
зашитым в шелковый шатер на Дунае, и до нас дошли только
отрывки разговора, которые доносились из-за зеленой ткани, не
пропускавшей дождя. Игрока звали Юсуф Масуди, и он умел читать
сны. Он мог в чужом сне поймать даже зайца, а не то что
человека, и служил у того самого всадника, которого пробудили
копьем. Всадник этот был важным и богатым человеком, звали его
Аврам Бранкович, и одни его борзые стоили не меньше ладьи
пороха. Масуди рассказывал о нем невероятные вещи. Он уверял
Саблякпашу, что Коэн в своем тяжелом сне видел именно этого
Аврама Бранковича.
- Ты говоришь, что читаешь сны? - спросил его на это
Саблякпаша.- Можешь ты ли тогда прочитать и этот сон Коэна?
- Конечно, могу. Я уже вижу, что ему снится: поскольку
Бранкович умирает, он видит его смерть.
При этих словах паша как будто оживился.
- Это значит, - быстро сказал он, - что Коэн может сейчас
увидеть то, чего не может ни один смертный - видя во сне
умирающего Бранковича, он может пережить смерть и остаться
живым?
- Да, это так, - согласился Масуди,- но он не может
пробудиться и рассказать нам все, что он видел во сне.
- Но зато ты можешь увидеть, как он видит во сне эту
смерть... - Могу и завтра я расскажу вам, как умирает человек и
что он при этом чувствует...
Ни Сабляк-паша, ни мы никогда не узнаем, зачем предлагал
это игрок, то ли чтобы продлить хоть на один день свою жизнь,
то ли чтобы действительно посмотреть сон Коэна и найти там
смерть Бранковича. Паша все же решил, что стоит попробовать. Он
сказал, что каждый следующий день стоит столько же, сколько
неиспользованная подкова, а вчерашний столько, сколько
потерянная подкова, и оставил Масуди жить до утра.
Этой ночью Коэн спал в последний раз, его огромный, как
птица, нос высовывался из его улыбки во сне, а эта улыбка
походила на огрызок с какого-то давно съеденного обеда. Масуди
не отходил от его изголовья до утра, а когда рассвело, уже не
был похож на самого себя, его словно бичевали в тех снах,
которые он читал. А прочитал он в них следующее:
Бранкович будто и не умирал от раны, нанесенной копьем. Он
этой раны и не чувствовал. Он чувствовал сразу множество ран, и
число их росло со страшной быстротой. Ему чудилось, что он
стоит высоко на каком-то каменном столбе и считает. Была весна,
дул ветер, который заплетал ветки ив в косы, и все ивы от
Муреша до Тисы и Дуная стояли с косами. Что-то вроде стрел
вонзалось в его тело, но процесс этот тек в обратном
направлении: от каждой стрелы он сначала чувствовал рану, потом
укол, потом боль прекращалась, слышался в воздухе свист, и
наконец звенела тетива, отпуская стрелу. Так, умирая, он считал
эти стрелы, от одной до семнадцати, а потом он упал со столба и
перестал считать. При падении он столкнулся с чем-то твердым,
неподвижным и огромным. Но это была не земля. Это была
смерть...
А потом в этой же смерти он умер и во второй раз, хотя
казалось, что в ней нет места даже для малейшей боли. Между
ударами стрел он тоже умирал раз, но тогда совсем по-другому -
умирал недозрелой мальчишеской смертью, и единственное, чего он
боялся, - это не успеть справиться с огромной работой (потому
что смерть-это тяжелый труд), чтобы, когда придет миг падения
со столба, закончить и с другой смертью. Поэтому он напрягался
и спешил. В этой неподвижной спешке он лежал за пестрой
комнатной печью, сложенной в форме маленькой, как будто
игрушечной церковки с красными и золотыми куполами. Горячие и
ледяные приступы боли катились от его тела в комнату, как будто
из него освобождаются и быстро сменяют друг друга времена года.
Сумрак ширился, как влага, каждая комната в доме чернела
по-своему, и только окна были еще нагружены последним светом
дня, чуть более бледным, чем сумерки в комнате. Кто-то прошел
тогда из невидимых сеней, неся свечу; казалось, что на косяке
было столько черных дверей, сколько страниц в книге, вошедший
перелистал их быстро, так что свеча затрепетала, и шагнул в
комнату. Что-то потекло из него, и он выпустил из себя все свое
прошлое и остался пуст. А потом будто бы поднялись воды, и на
дворе поднялась ночь с земли на небо, и у него вдруг выпали
сразу все волосы, будто кто-то сбил шапку с его головы, которая
была уже мертвой.
И тогда во сне Коэна возникла и третья смерть Бранковича.
Она была едва заметна, заслонена чем-то, что могло быть
накопленным временем. Будто сотни лет стояли между двумя
первыми смертями Бранковича и третьей, которая едва была видна
с того места, где находился Масуди... Та, третья, смерть была
быстрой и короткой. Бранкович лежал в какой-то странной
постели, и какой-то мужчина, схватив подушку, начал душить его.
Все это время Бранкович думал только об одном - нужно схватить
яйцо, лежащее на столике рядом с кроватью, и разбить его.
Бранкович не знал, зачем это нужно, но пока его душили
подушкой, он понимал, что это единственное, что важно.
Одновременно он понял, что человек открывает свое вчера и
завтра с большим опозданием, через миллион лет после своего
возникновения - сначала завтра, а потом вчера. Он открыл их
одной давней ночью, когда в сумраке угасал настоящий день,
притиснутый и почти что прерванный между прошлым и будущим,
которые в ту ночь настолько разрослись, что почти соединились.
Было так и сейчас. Настоящий день угасал, задушенный между
двумя вечностями - прошлой и будущей, и Бранкович умер в третий
раз, в тот миг, когда прошлое и будущее столкнулись в нем и
раздавили его тогда, когда ему наконец удалось раздавить
яйцо...
И тут вдруг сон Коэна оказался пустым, как пересохшее
русло реки. Настало время пробуждения, но не было больше
никого, чтобы видеть во сне явь Коэна, как это при жизни делал
Бранкович. Вот так и с Коэном должно было случиться то, что
случилось. Масуди видел, как во сне Коэна, который превращался
в агонию, со всех вещей, окружавших его, как шапки, попадали
имена и мир остался девственно чист, как в первый день
сотворения. Только первые десять чисел и те буквы алфавита, что
означают глаголы, сверкали надо всем, что окружало Коэна, как
золотые слезы. И тогда он понял, что числа десяти заповедей -
это тоже глаголы и что, забывая язык, их забывают последними и
они остаются как отзвук, и даже тогда, когда сами заповеди уже
исчезли из памяти.
В этот миг Коэн проснулся в своей смерти, и перед Масуди
исчезли все пути, потому что над горизонтом опустилась пелена,
на которой водой из реки Яббок было написано: "Ибо ваши сны -
это дни в ночах".
ЛУКАРЕВИЧ (Luccari) ЕФРОСИНИЯ (XVII век) - дубровницкая
аристократка из рода Геталдич-Крухорадичей, замужем за одним из
аристократов рода Luccari... Была известна своим свободным
поведением и красотой; в свое оправдание она шутя говорила, что
страсть и честь по одной дорожке не ходят, и имела по два
больших пальца на каждой руке. Она всегда была в перчатках,
даже во время обеда, любила красные, голубые и желтые кушанья и
носила платья этих же цветов... Говорили, что она состоит в
тайной связи с одним евреем из дубровницкого гетто, по имени
Самуэль Коэн ***... Еще рассказывали, что девушкой она умела
колдовать, выйдя замуж, стала ведьмой, а после смерти должна
была три года пробыть вурдалаком, но в это последнее не все
верили, потому что считалось, что чаще всего такое происходит с
турками, реже с греками, а с евреями никогда. Что же касается
госпожи Ефросиний, о ней шушукались, что втайне она Моисеевой
веры.
Как бы то ни было, когда Самуэля Козна изгнали из
Дубровника, госпожа Ефросиния не осталась к этому равнодушной;
говорили, что она умрет от тоски, потому что с того дня она по
ночам, как камень на сердце, держала собственный кулак, сжатый
с двух сторон большими пальцами. Но вместо того, чтобы умереть,
она однажды утром исчезла из Дубровника, потом ее видели в
Конавле, на Данчах, как она в полдень сидит на могиле и
расчесывает волосы, позже рассказывали, что она отправилась на
север, в Белград, на Дунай, - в поисках своего любовника.
Услышав, что Коэн умер под Кладовом, она никогда больше не
вернулась домой. Остриглась и закопала волосы, и неизвестно,
что с ней потом стало...
Д-р ДОРОТА ШУЛЬЦ (Краков, 1944- ) - славист, профессор
университета в Иерусалиме; девичья фамилия - Квашневская. Ни в
бумагах Краковского Ягеллонского университета в Польше, который
окончила Квашневская, ни в документации Йельского университета
в США в связи с присвоением ученой степени доктора Дороте
Квашневской, нет сведений о ее происхождении. Дочь еврейки и
поляка, Квашневская родилась в Кракове при странных
обстоятельствах. Мать оставила ей талисман, принадлежавший
раньше отцу Дороты Квашневской. Текст был таким: "Сердце мое -
моя дочь; в то время как я равняюсь по звездам, оно равняется
по луне и по боли, которая ждет на краю всех скоростей..."
Квашневская никогда не смогла узнать, чьи это были слова. Брат
ее матери, Ашкенази Шолем, исчез в 1943 году во время немецкой
оккупации Польши и преследований евреев, однако перед
исчезновением ему удалось спасти сестру. Он, не раздумывая
долго, раздобыл для сестры фальшивые документы на имя какой-то
польки и женился на ней. Венчание состоялось в Варшаве, в
церкви святого Фомы, и считалось, что это брак между крещеным
евреем и полькой. Он курил вместо табака чай из мяты, и когда
его забрали, сестра, она же и жена, Анна Шолем, которую
продолжали считать полькой и которая носила девичью фамилию
какой-то неизвестной ей Анны Закевич, развелась со своим мужем
(и братом, о чем, правда, знала только она сама) и так спасла
свою жизнь. Сразу же после этого она опять вышла замуж за
некоего вдовца, по фамилии Квашневский, с глазами в мелких
пятнышках, как яйца; он был безрогим на язык и рогат в мыслях.
От него у Анны был один-единственный ребенок - Дорота
Квашневская. Закончив отделение славистики, Дорота переехала в
США, позже защитила там докторскую диссертацию по проблемам
древних славянских литератур, но когда Исаак Шульц, которого
она знала еще со студенческих лет, уехал в Израиль, она
присоединилась к нему. В 1967 году во время
израильско-египетской войны он был ранен, и Дорота в 1968 году
вышла за него замуж, осталась жить в Тель-Авиве и Иерусалиме,
читала курс истории раннего христианства у славян, однако
постоянно посылала на свое собственное имя письма в Польшу. На
конвертах она писала свой старый адрес в Кракове, и эти письма,
которые Квашневская, в замужестве Шульц, писала самой себе,
сохранила в Польше нераспечатанными ее бывшая краковская
хозяйка квартиры, надеясь, что когда-нибудь сможет вручить их
Квашневской. Письма эти короткие, кроме одного или двух, и
представляют собой нечто вроде дневника д-ра Дороты Шульц в
период с 1968 по 1982 год. Связь их с хазарами состоит в том,
что последнее письмо, написанное из следственной тюрьмы в
Царьграде, затрагивает вопрос о хазарской полемике ***. Письма
приводятся в хронологическом порядке.
1. Тель-Авив, 21 августа 1967.
Дорогая Доротка,
у меня здесь такое чувство, что я ем скоромное за чужой, а
пощусь за свой счет. Я знаю, что, пока я пишу тебе эти строки,
ты уже стала немного моложе меня, там, в своем Кракове, в нашей
комнате, где всегда пятница, где в нас пихали корицу, как будто
мы яблоки. Если ты когда-нибудь получишь это письмо, ты станешь
старше меня в тот момент, когда его прочтешь.
Исааку лучше, он лежит в прифронтовом госпитале, но быстро
поправляется, и это заметно по его почерку. Он пишет, что видит
во сне "краковскую тишину трехдневную, дважды разогревавшуюся,
немного подгоревшую на дне". Скоро мы встретимся, и я боюсь
этой встречи не только из-за его раны, о которой еще ничего не
знаю, но и потому, что все мы деревья, вкопанные в собственную
тень.
Я счастлива, что ты, которая не любит Исаака, осталась
там, далеко от нас. Теперь нам с тобой легче любить друг друга.
2. Иерусалим, сентябрь 1968.
Доротка,
всего несколько строк: запомни раз и навсегда - ты
работаешь, потому что не умеешь жить. Если бы ты умела жить, ты
бы не работала и никакая наука для тебя бы не существовала. Но
все учили нас только тому, как работать, и никто - как жить. И
вот я не умею.
Исаак вернулся. Когда он одет, его шрамы не видны, он так
же красив, как и раньше, и похож на пса, который научился петь
краковяк. Он любит мою правую грудь больше, чем левую, и мы
спим совершенно непристойно... Давай договоримся так: поделим
роли, ты там, в Кракове, продолжай заниматься наукой, а я буду
здесь учиться жить.
3. Хайфа, март 1971.
Дорогая и не забытая мною Доротея,
давно я тебя не видела, и кто знает, смогла ли бы узнать.
Может, и ты меня больше не узнала бы, может, ты обо мне больше
и не думаешь в нашей квартире, где дверные ручки цепляются за
рукава. Я вспоминаю польские леса и представляю себе, как ты
бежишь через вчерашний дождь, капли которого лучше слышны,
когда падают не с нижних, а с верхних веток. Я вспоминаю тебя
девочкой и вижу, как ты растешь быстро, быстрее, чем твои ногти
и волосы, а вместе с тобой, но только еще быстрее, растет в
тебе ненависть к нашей матери. Неужели мы должны были ее так
ненавидеть? Здешний песок вызывает во мне страстное желание, но
я уже долгое время чувствую себя с Исааком странно. Это не
связано ни с ним, ни с нашей любовью. Это связано с чем-то
третьим. С его раной. Он читает в постели, я лежу рядом с ним в
палатке и гашу свет, когда чувствую, что хочу его. Несколько
мгновений он остается неподвижным, продолжает в темноте
смотреть в книгу, и я ощущаю, как его мысли галопом несутся по
невидимым строчкам. А потом он поворачивается ко мне. Но стоит
нам прикоснуться друг к Другу, как я чувствую страшный шрам от
его раны. Мы занимаемся любовью, а потом лежим, глядя каждый в
свой мрак, и несколько вечеров назад я спросила его: - Это было
ночью?
- Что? - спросил он, хотя знал, о чем я говорю.
- Когда тебя ранили.
- Это было ночью.
- И ты знаешь чем?
- Не знаю, но думаю, что это был штык.
4. Иерусалим, октябрь 1974.
Дорогая Доротка,
я читаю о славянах, как они спускались к морям с копьем в
сапоге. И думаю о том, как меняется Краков, осыпанный новыми
ошибками в правописании и языке, сестрами развития слова. Я
думаю о том, как ты остаешься той же, а я и Исаак все больше
меняемся. Я не решаюсь ему сказать. Когда бы мы ни занимались
любовью, как бы нам ни было хорошо и что бы мы при этом ни
делали, я грудью и животом все время чувствую след от того
штыка. Я чувствую его уже заранее, этот след вытягивается между
мною и Исааком в нашей постели. Неужели возможно, чтобы человек
за один миг смог расписаться штыком на теле другого человека и
навсегда вытатуировать свой след в чужом мясе? Эта рана похожа
на какой-то рот, и стоит нам, Исааку и мне, дотронуться друг до
друга, как к моей груди прикасается этот шрам, похожий на
беззубый рот. Я лежу возле Исаака и смотрю на то место в
темноте, где он спит. Запах клевера заглушает запах конюшни. Я
жду, когда он повернется - сон становится тонким, когда человек
поворачивается, - тогда я смогу его разбудить, и ему не будет
жалко. Есть сны бесценные, а есть и другие, как мусор. Я бужу
его и спрашиваю: - Он был левша?
- Кажется, да, - отвечает он мне сонно, но твердо, из чего
мне ясно, что он знает, о чем я думаю. - Его взяли в плен и
утром привели в мою палатку. Он был бородатым, с зелеными
глазами и ранен в голову. Его привели, чтобы показать мне эту
рану. Ее нанес я. Прикладом.
5. Снова Хайфа, сентябрь 1975.
Доротка,
ты и не сознаешь, какая ты счастливица, что там, у себя на
Вавеле, не знаешь этого ужаса, в котором я живу. Представь
себе, что в постели, когда ты обнимаешь своего мужа, тебя
кусает и целует ктото другой. Между Исааком и мной лежит и
всегда будет лежать какойто бородатый сарацин с зелеными
глазами! Он откликается на каждое мое движение раньше Исаака,
потому что он ближе к моему телу, чем тело Исаака. И этот
сарацин не выдумка! Этот скот-левша, и он больше любит мою
левую грудь, чем правую! Какой ужас, Доротка! Ты не любишь
Исаака, как я, скажи мне, как объяснить ему все это? Я оставила
тебя и Польшу и приехала сюда ради Исаака, а в его объятиях
встретила зеленоглазое чудовище, оно просыпается ночью, кусает
меня беззубым ртом и хочет меня всегда. Исаак иногда заставляет
меня кончать на этом арабе. Он всегда тут! Он всегда может...
Наши стенные часы, Доротка, этой осенью спешат, а весной
они будут отставать...
6. Октябрь 1978.
Доротея,
араб насилует меня в объятиях моего мужа, и я больше уже
не знаю, с кем я наслаждаюсь в своей постели. Из-за этого
сарацина муж кажется мне иным, чем раньше, я теперь вижу и
понимаю его поновому, и это невыносимо. Прошлое внезапно
переменилось: чем больше наступает будущее, тем сильнее
изменяется прошлое, оно становится опаснее, оно непредсказуемо,
как завтрашний день, в нем на каждом шагу закрытые двери, из
которых все чаще выходят живые звери. И у каждого из них свое
имя. У того зверя, который разорвет Исаака и меня, имя
кровожадное и длинное. Представляешь, Доротка, я спросила
Исаака, и он мне ответил. Он это имя знал все время. Араба
зовут Абу Кабир Муавия**. И свое дело он уже начал как-то
ночью, в песке, недалеко от водопоя. Как и все звери.
7. Тель-Авив, 1 ноября 1978.
Дорогая, забытая Доротка,
ты возвращаешься в мою жизнь, но при ужасных
обстоятельствах. Там, в твоей Польше, среди туманов таких
тяжелых, что они тонут в воде, ты и не представляешь себе, что
я тебе готовлю. Пишу тебе из самых эгоистических соображений. Я
часто думаю, что лежу с широко открытыми глазами в темноте, а
на самом деле в комнате горит свет и Исаак читает, а я лежу,
закрыв глаза. Между нами в постели по-прежнему этот третий, но
я решилась на маленькую хитрость. Это трудно, потому что поле
боя ограничено телом Исаака. Уже несколько месяцев я бегу от
губ араба, передвигаюсь по телу моего мужа справа налево. И вот
когда я уже решила, что выбралась из западни, на другом краю
Исаакова тела налетела на засаду. На еще одни губы араба. За
ухом Исаака, под волосами я наткнулась на второй шрам, и мне
показалось, что Абу Кабир Муавия запихал мне в рот свой язык.
Ужас! Теперь я действительно в западне-если я сбегаю от одних
его губ, меня ждут вторые, на другом краю тела Исаака. Что мне
думать об Исааке? Я не могу больше ласкать его - от страха, что
мои губы встретятся с губами сарацина. Вся наша жизнь теперь
проходит под его знаком. Смогла бы ты в таких условиях иметь
детей? Но самое страшное случилось позавчера. Один из этих
сарацинских поцелуев напомнил мне поцелуй нашей матери. Сколько
лет я не вспоминала ее, и теперь вдруг она напомнила о себе. И
как! Пусть не похваляется тот, кто обувается так же, как тот,
кто уже разулся, но как это пережить?
Я прямо спросила Исаака, жив ли еще египтянин. И что, ты
думаешь, он ответил? Жив и даже работает в Каире. Его шаги, как
плевки, тянутся за ним по свету. Заклинаю тебя: сделай
что-нибудь! Может быть, ты спасла бы меня от этого незваного
любовника, если бы отвлекла его похоть на себя, ты бы спасла и
меня, и Исаака. Запомни это проклятое имя-Абу Кабир Муавия,- и
давай возьмем каждая свое: ты бери этого леворукого араба в
свою постель в Кракове, а я попытаюсь сохранить для себя
Исаака.
8
Department of Slavic studies
University of Yale USA
October 1980.
Дорогая мисс Квашневская,
пишет тебе твоя д-р Шульц. Я пишу в перерыве между двумя
лекциями. У нас с Исааком все в порядке. Уши мои еще полны его
засушенных поцелуев. Мы почти помирились, и теперь наши постели
на разных континентах. Я много работаю. После почти
десятилетнего перерыва я снова участвую в научных конференциях.
И скоро мне опять предстоит поездка, на этот раз ближе к тебе.
Через два года в Царьграде состоится научная конференция по
вопросам Черноморского побережья. Я готовлю доклад. Ты помнишь
профессора Wyke и твою дипломную работу "Жития Кирилла и
Мефодия, славянских просветителей"? Помнишь исследование
Дворника, которым мы тогда пользовались? Сейчас он выпустил
второе, дополненное издание (1969), и я его буквально
проглотила, настолько оно интересно. В моей работе речь пойдет
о хазарской миссии Кирилла * и Мефодия *, той самой, важнейшие
сведения о которой - записи самого Кирилла - утеряны.
Неизвестный составитель жития Кирилла пишет, что свою
аргументацию в хазарской полемике *** Кирилл оставил при дворе
кагана в особых книгах, так называемых "Хазарских проповедях".
"Кто хочет найти полностью эти проповеди, -отмечает биограф
Кирилла,-найдет их в книгах Кирилла, которые перевел учитель
наш и архиепископ Мефодий, брат Константина Философа, поделив
их на восемь проповедей". Просто невероятно, что целые книги,
восемь проповедей христианского святого и создателя славянской
письменности, написанные на греческом и переведенные на
славянский язык, исчезли без следа! Не потому ли, что в них
было слишком много еретического? Не было ли в них
иконоборческой окраски, что было полезно в полемике, но не
соответствовало догматам, из-за чего потом их и изъяли из
употребления? Я еще раз перелистала Ильинского, всем нам хорошо
известный "Обзор систематизированной библиографии Кирилла и
Мефодия" до 1934 года, а потом его продолжателей (Попруженко,
Романского, Петковича и т. д.). Снова прочла Мошина. И потом
перечитала всю приведенную там литературу о хазарском вопросе.
Но нигде нет упоминания о том, что "Хазарские проповеди" особо
привлекли чье-то внимание. Как могло получиться, что все
бесследно исчезло? Этот вопрос все оставляют без внимания. А
ведь существовал не только греческий канонический текст, но и
славянский перевод, из чего можно сделать вывод, что это
произведение некоторое время имело очень широкое хождение.
Причем не только в хазарской миссии, но и позже; его
аргументация должна была бы использоваться и в славянской
миссии братьев из Салоник, и даже в полемике со сторонниками
"трехъязычия". Иначе зачем бы им было переводить это на
славянский язык? Я думаю, что наверное можно напасть на след
"Хазарских проповедей" Кирилла, если искать методом
сопоставления. Если систематически пересмотреть исламские и
еврейские источники о хазарской полемике, наверняка там
что-нибудь да всплывет о "Хазарских проповедях". Но дело в том,
что я не могу сделать это сама, это вообще не по силам одним
славистам, нужно участие и востоковедов, и специалистов по
древней еврейской культуре, Я посмотрела у Dunlop'a (History of
Jewish Khazars, 1954), но и там нет ничего, что могло бы
навести на след утраченных "Хазарских проповедей" Константина
Философа.
Видишь, не только ты в своем Ягеллонском университете
занимаешься наукой, я здесь тоже. Я вернулась к своей
специальности, к своей молодости, которая по вкусу похожа на
фрукты, доставленные пароходом с другого берега океана. Я хожу
в соломенной шляпе вроде корзинки. В ней можно, не снимая ее с
головы, принести с рынка черешню. Я 'старею всякий раз, как в
Кракове бьет полночь на городских часах, и просыпаюсь, когда
над Вавелем раздается звон часов. Я завидую твоей вечной
молодости. Как поживает твой Абу Ка-бир Муавия? Действительно
ли у него, как в моих снах, два копченых сухих уха и хорошо
выжатый нос? Спасибо, что ты его взяла на себя. Вероятно, ты
уже все знаешь о нем. Представь, он занят делом, весьма близким
к тому, чем занимаемся мы с тобой! Мы с ним работаем почти что
в одной области. Он преподает в Каирском университете
сравнительную историю религий Ближнего Востока и занимается
древнееврейской историей. Ты с ним мучаешься так же, как и я?
Любящая тебя д-р Шульц.
9. Иерусалим, январь 1981.
Доротка,
произошло невероятное. Вернувшись из Америки, я нашла в
нераспечатанной почте список участников той самой конференции о
культурах Черноморского побережья. Ты себе не представляешь,
кого я увидела в этом списке! А может, ты это узнала раньше
меня благодаря своей провидческой душе, которой не требуется
парикмахерская завивка? Араб, собственной персоной, тот самый,
с зелеными глазами, который изгнал меня из постели моего мужа.
Он будет на конференции в Царьграде. Однако не хочу вводить
тебя в заблуждение. Он приедет не для того, чтобы повидаться со
мной. Но я еду в Царьград, чтобы наконец-то его увидеть. Я уже
давно рассчитала, что наши профессии близки настолько, что
достаточно просто участвовать в научных конференциях, чтобы в
конце концов пересеклись и наши пути. В моей сумке лежит доклад
о хазарской миссии Кирилла и Мефодия, а под ним - S&W модель
36, калибр 38. Спасибо тебе за напрасные попытки взять на себя
д-ра Абу Кабира Муавию. Теперь я беру его на свою душу. Люби
меня так же, как ты не любишь Исаака. Сейчас мне это нужнее,
чем когда бы то ни было. Наш общий отец нам поможет...
10. Царьград, отель "Кингстон", 1 октября 1982.
Дорогая Доротея,
наш общий отец мне поможет, так я написала тебе в
последний раз. Что ты знаешь о нашем общем отце, бедная моя
глупышка? В твоем возрасте и я ничего не знала, так же как ты
сейчас. Но моя новая жизнь дала мне время, чтобы думать. Знаешь
ли ты, кто твой настоящий отец, детка? Ты думаешь, тот самый
поляк с бородой, похожей на пук травы, который дал тебе фамилию
Квашневская и отважился жениться на твоей матери, Анне Шолем?
Думаю, что нет. Попытайся вспомнить того, кого мы не могли
никак запомнить? Помнишь некоего Шолема Ашкенази, юношу на
фотографиях, с криво сидящими на носу очками и с другой их
парой, торчащей из жилетки. Того, который курит вместо табака
чай и у которого красивые волосы налезают на сфотографированные
уши. Того, который, как нам рассказывали, говорил, что "нас
спасет наша мнимая жертва". Помнишь брата и первого мужа нашей
матери, Анны Шолем, псевдоЗакевич в девичестве, Шолем по
первому и Квашневскую по второму мужу? И знаешь ли ты, кто был
первым отцом ее дочерей, твоим и моим? Ну, вспомнила наконец
через столько лет? Твой дядя и брат матери прекрасно мог быть и
нашим отцом, не правда ли? А почему, собственно, им не мог бы
быть муж твоей матери? Что ты думаешь о таком раскладе, дорогая
моя? Может быть, госпожа Шолем не имела мужчин до брака и не
могла повторно выйти замуж девушкой? Возможно, поэтому она
напоминает о себе таким неожиданным образом, неся с собой ужас.
Как бы то ни было, ее старания не пропали даром, и я думаю, что
моя мать, если и сделала так, была права тысячу раз, и если я
могу выбирать, то я выбираю отцом охотнее, чем кого бы то ни
было, брата моей матери. Несчастье, дорогая моя Доротея,
несчастье учит нас читать нашу жизнь в обратном направлении...
Здесь, в Царьграде, я уже кое с кем познакомилась. Мне не
хочется показаться кому-то странной, и я болтаю со всеми, не
закрывая рта. Один из моих коллег, приехавший на эту
конференцию,доктор Исайло Сук **. Он археолог, медиевист,
прекрасно знает арабский, мы говорим с ним по-немецки, шутим
по-польски, потому что он знает сербский и считает себя молью
собственного платья. Его семья уже сто лет переселяет из дома в
дом одну и ту же изразцовую печь, а он считает, что XXI век
будет отличаться- от нашего тем, что люди наконец-то единодушно
восстанут против скуки, которая сейчас затопляет их, как
грязная вода. Камень скуки, говорит д-р Сук, мы несем на плечах
на огромный холм, подобно Сизифу. Наверное, люди будущего
соберутся с духом и восстанут против этой чумы, против скучных
школ, скучных книг, против скучной музыки, скучной науки,
скучных встреч, и тогда они исключат тоску из своей жизни, из
своего труда, как этого и требовал наш праотец Адам. Говорит он
это не совсем серьезно, а когда пьет вино, не позволяет
доливать в свой бокал, потому что, считает он, бокал не кадило,
чтобы добавлять в него прежде, чем он иссяк. По его учебникам
учатся во всем мире, но он сам преподавать по ним не может. Он
должен преподавать в университете что-то другое. Его
исключительные знания в своей области никак не соответствуют
его крайне незначительному научному авторитету. Когда я ему
сказала об этом, он улыбнулся и объяснил мне это так:
- Дело в том, что вы можете стать великим ученым или
великим скрипачом (а знаете ли вы, что все великие скрипачи,
кроме Паганини, были евреями?), только если вас поддержит и
встанет за спиной у вас и ваших достижений один из мощных
интернационалов современного мира. Еврейский, исламский или
католический интернационал. Вы принадлежите к одному из них. Я
ни к какому, поэтому я и неизвестен. Между моими пальцами давно
уже проскочили все рыбы.
- О чем это вы говорите? - спросила я его изумленно. - Это
парафраз одного хазарского текста, примерно тысячелетней
давности. А вы, судя по названию доклада, который вы нам
прочтете, весьма осведомлены о хазарах. Почему же вы тогда
удивляетесь? Или вы никогда не встречали издание Даубмануса?
Должна признаться, что он меня смутил. Особенно когда
упомянул "Хазарский словарь" Даубмануса. Если такой словарь
когда-либо и существовал, ни один экземпляр его, насколько мне
известно, не сохранился.
Дорогая Доротка, я вижу снег в Польше, вижу, как снежинки
превращаются в твоих глазах в слезы. Вижу хлеб, насаженный на
шест со связкой лука, и птиц, которые греются в дыме над
домами. Д-р Сук говорит, что время приходит с юга и переходит
Дунай на месте Траянова моста. Здесь нет снега, и облака похожи
на остановившиеся волны, которые выбрасывают рыбу. Д-р Сук
обратил мое внимание еще на одно обстоятельство. В нашем отеле
остановилась чудесная бельгийская семья, их фамилия Ван дер
Спак. Семья, какой у нас никогда не было и какой не будет у
меня. Отец, мать и сын. Д-р Сук называет их "святое семейство".
Каждое утро во время завтрака я наблюдаю, как они едят; все они
упитаны, а господин Спак, как я случайно слышала, однажды в
шутку сказал: на толстую кошку блоха не пойдет... Он прекрасно
играет на каком-то инструменте, сделанном из панциря белой
черепахи, а бельгийка занимается живописью. Рисует она левой
рукой, и при этом очень хорошо, на всем, что ей попадается: на
полотенцах, стаканах, ножах, на перчатках своего сына. Их
мальчику года четыре. У него коротко подстриженные волосы,
зовут его Мануил, и он только недавно научился составлять свои
первые фразы. Съев булочку, он подходит к моему столу и
застывает, глядя на меня так, как будто влюблен. Глаза его в
пятнышках, напоминающих мелкие камешки на тропинке, и он
постоянно спрашивает меня: "Ты меня узнала?" Я глажу его по
голове, словно глажу птицу, а он целует мне пальцы. Он приносит
мне трубку своего отца, похожего на цадика, и предлагает
покурить. Ему нравится все красного, голубого и желтого цветов.
И он любит есть все, что этого цвета. Я ужаснулась, когда
заметила один его физический недостатокна каждой руке у него по
два больших пальца. Никогда не могу разобрать, какая рука у
него правая, а какая левая. Но он еще не понимает, как
выглядит, и не прячет от меня свои руки, хотя родители все
время надевают ему перчатки. Иногда, не знаю, поверишь ли ты,
мне это совсем не мешает и перестает казаться чем-то
неестественным.
Да может ли мне вообще что-то мешать, если сегодня утром
за завтраком я услышала, что на конференцию прибыл и д-р Абу
Кабир Муавия. "...Мед источают уста чужой жены, и мягче елея
речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как
меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают
преисподней". Так написано в Библии.
11. Царьград, 8 октября 1982.
Мисс Доротее Квашневской - Краков.
Я потрясена твоим эгоизмом и безжалостностью приговора. Ты
уничтожила и мою жизнь, и жизнь Исаака. Я всегда боялась твоей
науки и предчувствовала, что она несет мне зло. Надеюсь, ты
знаешь, что случилось и что ты наделала. В то утро я вышла
завтракать, твердо решив стрелять в Муавию, как только он
появится во внутреннем садике отеля, где мы завтракаем. Я
сидела и ждала; наблюдала, как тени птиц, пролетающих над
гостиницей, стремительно скользят по стене. И тогда случилось
то, чего никоим образом нельзя было предусмотреть. Появился
человек, и я сразу поняла, кто это. Лицо его было темным, как
хлеб, волосы с сединой, будто у него в усах застряли рыбьи
кости. Только на виске из шрама растет пучок диких, совершенно
черных волос, они у него не седеют. Д-р Муавия подошел прямо к
моему столу и попросил разрешения сесть. Он заметно хромал, и
один его глаз был прищурен, как маленький закрытый рот. Я
замерла, потом в сумке сняла с предохранителя револьвер и
оглянулась. В саду кроме нас был только один четырехлетний
Мануил; он играл под соседним столом.
- Разумеется, - сказала я, и человек положил на стол
нечто, что навсегда изменило мою жизнь. Это была стопка бумаг.
- Я знаю тему вашего доклада, - так сказал он садясь, - и
именно поэтому хотел проконсультироваться по одному вопросу,
связанному с ней.
Мы говорили по-английски, у него немного стучали зубы, ему
было холоднее, чем мне, губы его тряслись, но он ничего не
делал, чтобы унять дрожь. Он грел пальцы о свою трубку и вдувал
дым в рукава. Вопрос его касался "Хазарских проповедей" Кирилла
и Мефодия.
- Я просмотрел, - сказал он, - всю литературу, которая
относится к "Хазарским проповедям", и нигде не нашел никакого
упоминания о том, что эти тексты дошли до наших дней. Отрывки
из "Хазарских проповедей" Кирилла сохранились и даже были
напечатаны несколько сотен лет назад, и мне представляется
невероятным, что никто об этом не знает.
Я была потрясена. То, что утверждает этот человек, могло
было бы стать крупнейшим открытием в моей области - славистике
- за все время ее существования. Если это действительно так.
- Почему вы так думаете? - спросила я его, пораженная, и
не очень уверенно изложила ему свое мнение по этому вопросу. -
"Хазарские проповеди" Кирилла, - сказала я, - науке неизвестны,
о них лишь упоминается в житии Кирилла, откуда мы и знаем, что
они существовали. О какой-то сохранившейся рукописи или же об
опубликованном тексте этих проповедей смешно говорить.
- Это-то я и хотел проверить, - проговорил д-р Муавия, - с
настоящего момента будет известно, что верно совершенно
обратное...
И он протянул мне те самые бумаги - ксерокопии, - которые
лежали перед ним. Передавая мне эту пачку, он на мгновение
прикоснулся своим большим пальцем к моему, и от этого
прикосновения у меня по телу пробежали мурашки. У меня было
такое чувство, что наше прошлое и настоящее сконцентрировалось
в наших пальцах и соприкоснулось. Когда я спросила д-ра Муавию,
как они к нему попали, он ответил нечто такое, что привело меня
в еще большее изумление:
- Важно вовсе не то, как они ко мне попали. В XII веке они
оказались в руках вашего соплеменника, поэта Иуды Халеви, он
внес их в свой трактат о хазарах. Описывая известную полемику,
он привел слова ее христианского участника, называя его
"философом", то есть так же, как это лицо называет и автор
жития Кирилла в связи с той же полемикой. Таким образом, имя
Кирилла в этом еврейском источнике не названо, как и имя
арабского участника, приводится только звание христианского
участника - Кирилла, а это и есть причина того, что до сих пор
никто не искал текст Кирилла в хазарской хронике Иуды Халеви.
Я смотрела на д-ра Муавию, и мне казалось, что он не имеет
никакого отношения к тому раненому человеку с зелеными глазами,
который несколько мгновений назад сел за мой стол. Все было
настолько убедительно и ясно, так соответствовало уже известным
науке фактам, что просто удивительно, почему раньше никому не
пришло в голову искать этот текст таким способом.
- Здесь имеется одна неувязка, - сказала я наконец д-ру
Муавии, - текст Халеви относится к VIII веку, а хазарская
миссия Кирилла была в девятом столетии: в 861 году.
- Тот, кто знает истинный путь, может идти и в обход! -
заметил на это Муавия.- Нас интересуют не даты, а то, были ли у
Халеви, который жил позже Кирилла, под рукой его "Хазарские
проповеди", когда он писал свою книгу о хазарах. И использовал
ли он их в этой книге, там, где он приводит слова христианского
участника хазарской полемики. Скажу сразу, в словах
христианского мудреца у Халеви есть несомненные совпадения с
теми аргументами Кирилла, которые дошли до нас. Мне известно,
что вы переводили на английский житие Кирилла, и, конечно, вы
сможете без труда узнать отдельные фрагменты, Послушайте меня и
скажите, чей, например, это текст, в котором говорится о том,
что человек занимает место посередине между ангелами и
животными...
Разумеется, я тут же вспомнила это место и привела его
наизусть: - "Бог, создавший свет, создал человека между ангелом
и животным, речью и разумом отделив его от животных, а гневом и
похотью от ангелов, и через эти свойства он и приближается или
к высшим или к низшим". Это, - заметила я, цитируя текст, -
часть жития об агарянской миссии Кирилла.
- Совершенно верно, но точно то же мы встречаем и в пятой
части книги Халеви, где он полемизирует с Философом. Есть и
другие совпадения. Самое же важное то, что в самой речи,
которую в хазарской полемике Халеви приписывает христианскому
ученому, рассматриваются вопросы, которые Кирилл, как видно из
жития, обсуждал во время полемики. В обоих текстах говорится о
Святой Троице и законах, существовавших до Моисея, о запретах
на некоторые виды мяса и, наконец, о врачах, которые лечат
противно тому, как нужно. Приводится тот же аргумент, что душа
сильнее всего тогда, когда тело самое слабое (около
пятидесятого года жизни) и т. д. Наконец, хазарский каган
упрекает арабского и еврейского участников полемики - все это
согласно Халеви,- что их книги откровений (Коран и Тора)
написаны на языках, ничего не значащих для хазар, индусов и
других народов, которые их не понимают. Это один из
существенных аргументов, который приводится и в житии Кирилла,
когда речь идет о борьбе против сторонников трехъязычия (то
есть тех, кто считал языками богослужения только греческий,
древнееврейский и латинский), так что ясно, что в этом вопросе
каган был под влиянием христианского участника полемики и
выдвигал доводы, о которых мы и от другой стороны знаем, что
они принадлежат действительно Кириллу. Халеви это только
пересказал.
Наконец, нужно обратить внимание еще на две вещи.
Вопервых, мы не знаем всего, что содержалось в потерянных
"Хазарских проповедях" Константина Солунского (Кирилла), и не
знаем, что из этого передано в тексте Халеви. Значит, можно
предположить, что такого материала имеется больше, чем я здесь
привел. Второе: целостность текста Халеви, именно в той его
части, которая относится к христианскому участнику полемики,
серьезно нарушена. Эта часть не сохранилась в арабском
источнике, она имеется только в появившемся позже еврейском
переводе, в то время как напечатанные издания Халеви, особенно
те, которые относятся к XVI веку, подвергались, как известно,
цензуре христианской церкви.
Короче говоря, книга Халеви о хазарах донесла до нас, хотя
мы сегодня не знаем, в каком объеме, часть "Хазарской
проповеди" Кирилла. Впрочем, здесь, в Царьграде, - закончил д-р
Муавия,- в нашей конференции будет участвовать и некий д-р
Исайло Сук, который хорошо говорит по-арабски и занимается
исламскими источниками о хазарской полемике. Он мне сказал, что
у него имеется хазарский словарь XVII века, который издал некий
Даубманус, и что из этого словаря видно, что Халеви использовал
"Хазарские проповеди" Кирилла. Я пришел попросить вас
поговорить с д-ром Суком. Со мной он говорить вряд ли станет.
Его интересуют только арабы, жившие тысячу лет назад или
раньше. Для остальных у него нет времени. Не поможете ли вы мне
познакомиться с д-ром Суком и прояснить эту проблему...
Так закончил свой рассказ д-р Абу Кабир Муавия, и в моем
мозгу мгновенно связались все нити. Когда забываешь, в каком
направлении истекает время, определить это помогает любовь. Из
нее время всегда вытекает. Спустя столько лет опять охватила
меня твоя проклятая страсть к науке, и я предала Исаака. Вместо
того чтобы стрелять, я побежала искать д-ра Сука, оставив свои
бумаги и под ними оружие. У входа не было никого из прислуги,
на кухне кто-то обмакивал кусок хлеба в огонь и ел его. Я
увидела Ван дер Спака, который выходил из комнаты, и поняла,
что это комната д-ра Сука. Я постучала, но никто не отозвался.
Где-то у меня за спиной часто капали шаги, а между ними я
чувствовала жар женского тела. Я постучала опять, и тогда от
моего стука дверь слегка приоткрылась.'0нане была закрыта на
ключ. Сначала я увидела только ночной столик и на нем блюдечко,
в котором лежали яйцо и ключ. Открыв дверь шире, я вскрикнула.
Д-р Сук лежал в постели, задушенный подушкой. Он лежал закусив
усы, будто спеша навстречу ветру. Я с криком бросилась бежать,
и тут из сада послышался выстрел. Выстрел был один, но я
слышала его каждым ухом отдельно. Я сразу же узнала звук своего
револьвера. Влетев в сад, я увидела, что д-р Муавия лежит на
дорожке с размозженной головой... За соседним столом ребенок в
перчатках пил свой шоколад, будто ничего не произошло... Больше
никого в саду не было.
Меня сразу же арестовали. Смит-Вессон, на котором найдены
только мои отпечатки пальцев, приложен в качестве улики, и меня
обвиняют в преднамеренном убийстве д-ра Абу Кабира Муавии. Это
письмо я пишу тебе из следственной тюрьмы и все еще ничего не
могу понять. Источник сладкой воды в устах своих ношу и меч
обоюдоострый... Кто убил д-ра Муавию? Представляешь, обвинение
гласит: еврейка убила араба из мести! Весь исламский
интернационал, вся египетская и турецкая общественность
восстанут против меня. "Поразит перед тобою Господь врагов
твоих, восстающих против тебя; одним путем они выступят против
тебя, а семью путями побегут от тебя". Как доказать, что ты не
сделал того, что действительно собирался сделать? Нужно найти
жестокую ложь, ложь страшную и сильную, как отец дождя, чтобы
доказать истину. Рога вместо глаз нужны тому, кто хочет
выдумать такую ложь. Если найду ее, останусь жить и заберу тебя
из Кракова к себе в Израиль, опять вернусь к наукам нашей
молодости. Спасет нас наша мнимая жертва - так говорил один из
двух наших отцов... Как тяжело выдержать милость Его, а тем
более гнев.
Стамбул,
18 октября 1982
Вирджиния Атех, официантка в ресторане отеля "Кингстон",
свидетель по делу госпожи Дороты Шульц, сделала на суде
следующее заявление:
"В тот день, 2 октября 1982 года, погода была солнечной. Я
чувствовала сильное волнение. Струи соленого воздуха тянулись с
Босфора, и вместе с ними, извиваясь, как змеи, в медленные
мысли проникали быстрые мысли. Сад отеля "Кингстон", где в
хорошую погоду накрывают столы, имеет четырехугольную форму.
Один угол солнечный, в другом-есть немного плодородной земли с
цветами, в третьем - всегда ветрено, а в четвертом углу
находится каменный колодец и рядом с ним столб. Я обычно стою
за этим столбом, потому что знаю, что гости не любят, чтобы на
них смотрели, когда они едят. Это и неудивительно. Я, например,
стоит мне только посмотреть, как гость завтракает, знаю сразу,
что яйцо всмятку нужно ему для того, чтобы перед обедом сходить
выкупаться, рыба - для того, чтобы вечером прогуляться до
Топчисарая, а стакан вина даст ему энергию для улыбки перед
сном, улыбки, которая не достигнет близоруких гостиничных
зеркал. С этого места возле колодца видна и лестница, ведущая в
сад, так что всегда знаешь, кто приходит, кто уходит. Есть
здесь и еще одно преимущество. Так же как вода из всех
ближайших водосточных труб сливается в колодец, в него стекают
и все голоса из сада, и если приблизить ухо к отверстию
колодца, можно совершенно ясно слышать каждое слово,
произнесенное в саду. Слышно даже, как птица клювом схватила
мошку и как треснула скорлупа на вареном яйце, можно различить,
как перекликаются вилки, все одинаковыми голосами, и
бокалы-каждый своим. Из разговоров гостей всегда ясно, зачем
они собираются позвать официанта, и я всегда могу удовлетворить
их желания еще до того, как они мне их выскажут, ведь я все
слышу через колодец. А знать что-то хоть и на несколько
мгновений раньше других - это большое преимущество и всегда
приносит пользу. В то утро первыми в сад спустились гости из
номера 18, семья Ван дер Спак, бельгийцы, отец, мать и сын.
Отец уже в годах, прекрасно играет на каком-то инструменте,
сделанном из панциря белой черепахи, по вечерам из их номера
часто была слышна музыка. Он немного странный и всегда ест
собственной вилкой с двумя зубцами, которую носит в кармане.
Мать - молодая, красивая женщина, по этой причине я ее более
пристально рассматривала. Вот почему я заметила и один
недостаток в ее внешности - у нее была только одна ноздря.
Каждый день она отправлялась в Ай-Софию и там делала прекрасные
копии настенной живописи. Я спросила, не служат ли ее картины
нотными записями песен мужа, но она меня не поняла. Ее сын,
ребенок лет трех-четырех, тоже.
Обвинитель: "Тогда я подумала: вот сейчас у тебя есть
галстук". Я хочу перед судом выразить мое глубочайшее
негодование тем, как даются показания свидетелем. А кто вы по
национальности, мадемуазель или мадам Атех?
Свидетель: Это трудно объяснить.
Обвинитель: Постарайтесь, будьте добры.
Свидетель: Я хазарка.
Обвинитель: Как вы сказали? Я не слышал о таком народе.
Какой у вас паспорт? Хазарский?
Свидетель: Нет, израильский.
Обвинитель: Прекрасно. Это-то я и хотел услышать. Как же
так - хазарка и с израильским паспортом? Вы изменили вашему
народу?
Свидетель (смеется): Нет, скорее наоборот. Хазары
переродились в евреев, и я вместе с другими приняла иудаизм и
получила израильский паспорт. Что мне делать одной на свете?
Если бы все арабы стали евреями, разве вы остались бы арабом?
Обвинитель: Комментарии не требуются, кроме того, вопросы
здесь задаете не вы. Ваши показания вымышлены, для того чтобы
помочь обвиняемой, вашей соотечественнице. У меня больше нет
вопросов. Надеюсь, что и у присяжных..."
После этого суд заслушал семью Ван дер Спак из Бельгии,
Они единодушно подчеркивали три вещи. Во-первых, рассказ о том,
что убийство якобы совершил трехлетний ребенок, лишено всякого
смысла. Во-вторых, следствием установлено, что доктор Муавия
убит из оружия, на котором найдены отпечатки пальцев одного
человека - госпожи Дороты Шульц. Следствием также установлено,
что упомянутое оружие (марки Смит-Вессон, модель 36, калибр
38), из которого был убит доктор Муавия, принадлежало госпоже
Шульц. Втретьих, госпожа Спак, главный свидетель обвинения,
утверждала, что госпожа Шульц имела причины для убийства
доктора Муавии, что она приехала в Стамбул убить доктора Муавию
и что она его и убила. В частности, в ходе следствия было
установлено, что доктор Муавия во время египетско-израильской
войны тяжело ранил супруга госпожи Дороты Шульц. Причины, таким
образом, ясны. Убийство из мести. Свидетельства официантки
ресторана отеля "Кингстон" не могут быть приняты во внимание
как недостоверные. На этом дело было закончено.
На основе приведенных материалов обвинитель потребовал
предъявить Дороте Шульц обвинение в предумышленном убийстве,
имеющем к тому же политические мотивы. Тогда перед судом
предстала обвиняемая. Госпожа Шульц сделала очень короткое
заявление. Она не виновата в смерти доктора Муавии. И это
утверждение она может подтвердить. У нее есть алиби. На вопрос
суда, что это за алиби, она ответила:
- В тот момент, когда был убит доктор Муавия, я убила
другого человека - доктора Исайло Сука. Я задушила его подушкой
в его комнате.
Следствием было установлено, что господина Ван дер Спака в
то утро тоже видели в комнате доктора Сука в тот момент, когда
наступила смерть, однако признание госпожи Шульц сняло с
бельгийца все обвинения.
Судебный процесс закончился, приговор вынесен. С госпожи
Шульц снято обвинение в том, что она преднамеренно, из мести
совершила убийство доктора Абу Кабира Муавии. Она осуждена за
убийство доктора Исайло Сука. Убийство доктора Муавии осталось
нераскрытым. Семья Ван дер Спак освобождена. Официантка
ресторана гостиницы "Кингстон" Вирджиния Атех приговорена к
денежному штрафу за попытку ввести суд в заблуждение и
направить следствие по ложному пути.
Госпожа Дорота Шульц отправлена отбывать наказание в
стамбульскую тюрьму сроком на шесть лет. Она пишет письма,
адресуя их на собственное имя, в Краков. Все ее письма
просматривают. Они всегда заканчиваются непонятной фразой:
"Наша мнимая жертва спасла нас от смерти".
Во время осмотра комнаты доктора Сука не обнаружено
никаких книг или бумаг. Найдено яйцо, разбитое с тупого конца.
Пальцы убитого запачканы желтком; значит, последнее, что он
делал в жизни,- разбивал яйцо. Найден и необычный ключ с
золотой головкой, который, как ни странно, подошел к замку
одной из комнат для обслуживающего персонала отеля "Кингстон".
Это комната официантки Вирджинии Атех.
На столе семейства Ван дер Спак найден приложенный к
следственному материалу счет, выписанный на обороте фирменного
бланка отеля. Вот он:
1689+293=1982.
Популярность: 117, Last-modified: Thu, 02 Jul 1998 04:58:04 GmT

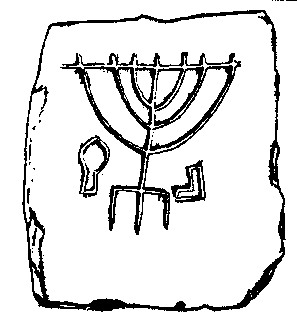 В этот момент все звонки на двери начали звонить и в дом
ворвались гости, Джельсомина Мохоровичич вошла в вызывающих
сапожках с прекрасными, неподвижными глазами, будто сделанными
из драгоценных камней. Мать профессора Сука в присутствии всех
гостей вручила ей виолончель, поцеловала ее между глаз, оставив
на месте поцелуя еще один глаз, нарисованный губной помадой, и
сказала:
- Как ты думаешь, Джельсомина, от кого этот подарок?
Отгадай! От профессора Сука! Ты должна написать ему хорошее
письмо и поблагодарить его. Он молодой и красивый господин. И я
всегда берегу для него самое лучшее место во главе стола!
Углубленная в свои мысли, тяжелая тень которых могла бы
отдавить ногу, как сапог, госпожа Сук рассадила своих гостей за
столом, оставив почетное место пустым, как будто она все еще
ожидает самого важного гостя, и рассеянно и торопливо посадила
д-ра Сука рядом с Джельсоминой и остальной молодежью возле
хорошо политого фикуса, который у них за спиной потел и
слезился листьями так, что было слышно, как капли падают на
пол.
В тот вечер за столом Джельсомина повернулась к д-ру Суку,
дотронулась до его руки своим горячим пальчиком и сказала:
- Поступки в человеческой жизни похожи на еду, а мысли и
чувства - на приправы. Плохо придется тому, кто посолит черешню
или уксусом польет пирожное...
Пока Джельсомина произносила эти слова, д-р Сук резал хлеб
и думал о том, что она одних лет с ним и других - с остальным
миром.
Когда после ужина профессор Сук вернулся в свою комнату в
гостинице, он вытащил из кармана ключ, достал лупу и принялся
изучать его. На золотой монете, которая служила головкой, он
прочитал еврейскую букву "X"...
...Д-р Сук заснул на рассвете с мыслями о том, что никогда
не узнает, что сказала ему в тот вечер Джельсомина. К ее голосу
он был совершенно глух.
В этот момент все звонки на двери начали звонить и в дом
ворвались гости, Джельсомина Мохоровичич вошла в вызывающих
сапожках с прекрасными, неподвижными глазами, будто сделанными
из драгоценных камней. Мать профессора Сука в присутствии всех
гостей вручила ей виолончель, поцеловала ее между глаз, оставив
на месте поцелуя еще один глаз, нарисованный губной помадой, и
сказала:
- Как ты думаешь, Джельсомина, от кого этот подарок?
Отгадай! От профессора Сука! Ты должна написать ему хорошее
письмо и поблагодарить его. Он молодой и красивый господин. И я
всегда берегу для него самое лучшее место во главе стола!
Углубленная в свои мысли, тяжелая тень которых могла бы
отдавить ногу, как сапог, госпожа Сук рассадила своих гостей за
столом, оставив почетное место пустым, как будто она все еще
ожидает самого важного гостя, и рассеянно и торопливо посадила
д-ра Сука рядом с Джельсоминой и остальной молодежью возле
хорошо политого фикуса, который у них за спиной потел и
слезился листьями так, что было слышно, как капли падают на
пол.
В тот вечер за столом Джельсомина повернулась к д-ру Суку,
дотронулась до его руки своим горячим пальчиком и сказала:
- Поступки в человеческой жизни похожи на еду, а мысли и
чувства - на приправы. Плохо придется тому, кто посолит черешню
или уксусом польет пирожное...
Пока Джельсомина произносила эти слова, д-р Сук резал хлеб
и думал о том, что она одних лет с ним и других - с остальным
миром.
Когда после ужина профессор Сук вернулся в свою комнату в
гостинице, он вытащил из кармана ключ, достал лупу и принялся
изучать его. На золотой монете, которая служила головкой, он
прочитал еврейскую букву "X"...
...Д-р Сук заснул на рассвете с мыслями о том, что никогда
не узнает, что сказала ему в тот вечер Джельсомина. К ее голосу
он был совершенно глух.
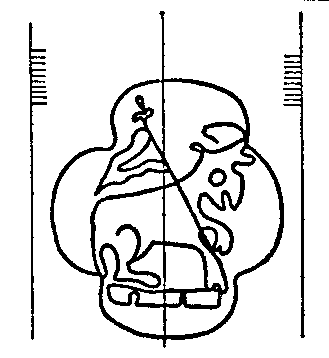 Год спустя комната в мансарде была забита вещами, и
однажды утром, войдя в нее, д-р Муавия был ошеломлен, поняв,
что все им приобретенное начинает складываться в нечто имеющее
смысл. Бросалось в глаза, что часть этих вещей представляет
собой оборудование для чего-то походившего на больницу. Но на
больницу необычную, возможно древнюю, в которой лечили не так,
как лечат сейчас. В больнице д-ра Муавии были сиденья со
странными прорезями, скамьи с кольцами для того, чтобы
привязывать сидящих, деревянные шлемы с отверстиями только для
левого или для правого глаза или же с дыркой для третьего глаза
на темени, Муавия поместил эти вещи в отдельную комнату, позвал
своего коллегу с медицинского факультета и показал их ему. Это
была его первая после войны 1967 года встреча с одним из бывших
университетских друзей. Медик осмотрел вещи и сказал: это
древнейшее оборудование для лечения снов, точнее для лечения
зрения, которым пользуются во сне. Потому что во сне, по
некоторым верованиям, мы видим совсем не тем зрением, которым
видим наяву.
Д-р Муавия усмехнулся такому выводу и занялся остальными
вещами. Они по-прежнему находились в первой большой комнате с
попугаем, однако установить связь между ними было труднее, чем
между теми, что представляли собой средства для лечения зрения,
которым видят сны. Долго пытался он найти общий знаменатель для
всего этого старья и наконец решился прибегнуть к методу,
которым пользовался раньше - в своей предыдущей жизни ученого.
Он решил искать помощь у компьютера. Позвонил по телефону
одному из своих бывших сотрудников в Каире, специалисту по
теории вероятности, и попросил его ввести в компьютер названия
всех предметов, которые перечислит ему в письме. Три дня спустя
компьютер выдал результат, и д-р Муавия получил из Каира ответ.
Что касается стихотворения, о нем машина знала только то, что
оно написано на каком-то славянском языке на бумаге 1660 года с
водяным знаком, на котором ягненок под знаменем с трехлистным
клевером. Остальные же предметы - такие, как попугай, седло для
верблюда с колокольчиками, засохший плод, похожий одновременно
на рыбу и шишку, клетка для людей и другие -объединяло только
одно. А именно - из скудных данных, которыми компьютер
располагал главным образом на основе исследований самого д-ра
Муавии, вытекало, что все эти вещи упоминались в утраченном в
настоящее время "Хазарском словаре".
Так д-р Муавия снова оказался там, где он был перед
началом войны. Он снова отправился в "Корчму у суки", раскурил
трубку, огляделся вокруг, погасил ее и вернулся в Каир, к
прежней работе в университете. На столе его ожидала гора писем
и приглашений на встречи и симпозиумы, из которых он выбрал
одно и начал готовиться к докладу на научной конференции в
октябре 1982 года в Царьграде на тему "Культура Черноморского
побережья в средние века". Он снова прочитал Иуду Халеви, его
сочинение о хазарах, написал свой доклад и поехал в Царьград,
надеясь, что там он, быть может, .встретится с кем-нибудь, кто
больше, чем он, знает о хазарских делах. Тот, кто убил д-ра
Муавию в Царьграде, сказал, направив на него револьвер: -
Открой пошире рот, чтобы я не испортил тебе зубы!
Д-р Муавия разинул рот, и он его убил. И так хорошо
прицелился, что зубы д-ра Муавии остались целы.
Год спустя комната в мансарде была забита вещами, и
однажды утром, войдя в нее, д-р Муавия был ошеломлен, поняв,
что все им приобретенное начинает складываться в нечто имеющее
смысл. Бросалось в глаза, что часть этих вещей представляет
собой оборудование для чего-то походившего на больницу. Но на
больницу необычную, возможно древнюю, в которой лечили не так,
как лечат сейчас. В больнице д-ра Муавии были сиденья со
странными прорезями, скамьи с кольцами для того, чтобы
привязывать сидящих, деревянные шлемы с отверстиями только для
левого или для правого глаза или же с дыркой для третьего глаза
на темени, Муавия поместил эти вещи в отдельную комнату, позвал
своего коллегу с медицинского факультета и показал их ему. Это
была его первая после войны 1967 года встреча с одним из бывших
университетских друзей. Медик осмотрел вещи и сказал: это
древнейшее оборудование для лечения снов, точнее для лечения
зрения, которым пользуются во сне. Потому что во сне, по
некоторым верованиям, мы видим совсем не тем зрением, которым
видим наяву.
Д-р Муавия усмехнулся такому выводу и занялся остальными
вещами. Они по-прежнему находились в первой большой комнате с
попугаем, однако установить связь между ними было труднее, чем
между теми, что представляли собой средства для лечения зрения,
которым видят сны. Долго пытался он найти общий знаменатель для
всего этого старья и наконец решился прибегнуть к методу,
которым пользовался раньше - в своей предыдущей жизни ученого.
Он решил искать помощь у компьютера. Позвонил по телефону
одному из своих бывших сотрудников в Каире, специалисту по
теории вероятности, и попросил его ввести в компьютер названия
всех предметов, которые перечислит ему в письме. Три дня спустя
компьютер выдал результат, и д-р Муавия получил из Каира ответ.
Что касается стихотворения, о нем машина знала только то, что
оно написано на каком-то славянском языке на бумаге 1660 года с
водяным знаком, на котором ягненок под знаменем с трехлистным
клевером. Остальные же предметы - такие, как попугай, седло для
верблюда с колокольчиками, засохший плод, похожий одновременно
на рыбу и шишку, клетка для людей и другие -объединяло только
одно. А именно - из скудных данных, которыми компьютер
располагал главным образом на основе исследований самого д-ра
Муавии, вытекало, что все эти вещи упоминались в утраченном в
настоящее время "Хазарском словаре".
Так д-р Муавия снова оказался там, где он был перед
началом войны. Он снова отправился в "Корчму у суки", раскурил
трубку, огляделся вокруг, погасил ее и вернулся в Каир, к
прежней работе в университете. На столе его ожидала гора писем
и приглашений на встречи и симпозиумы, из которых он выбрал
одно и начал готовиться к докладу на научной конференции в
октябре 1982 года в Царьграде на тему "Культура Черноморского
побережья в средние века". Он снова прочитал Иуду Халеви, его
сочинение о хазарах, написал свой доклад и поехал в Царьград,
надеясь, что там он, быть может, .встретится с кем-нибудь, кто
больше, чем он, знает о хазарских делах. Тот, кто убил д-ра
Муавию в Царьграде, сказал, направив на него револьвер: -
Открой пошире рот, чтобы я не испортил тебе зубы!
Д-р Муавия разинул рот, и он его убил. И так хорошо
прицелился, что зубы д-ра Муавии остались целы.
 Теперь раби Папо и Ицхак Нехама поняли, что души Коэна
поссорились из-за мешочков с рукописями, но их было так много,
что казалось невозможным пересмотреть все. Тогда раби Абрахам
спросил: - Думаешь ли ты о цвете этих чехлов то же, что и я?
- Разве не видно, что они того же цвета, что и пламя? -
заметил Нехама.- Посмотри на свечу. Ее пламя состоит из
нескольких цветов: голубой, красный, черный, этот трехцветный
огонь обжигает и всегда соприкасается с той материей, которую
он сжигает, с фитилем и маслом. Вверху, над этим трехцветным
огнем, второе белое пламя, поддерживаемое нижним, не обжигает,
но светит, то есть это огонь, питаемый огнем. Моисей на горе
стоял в этом белом пламени, которое не обжигает, а светит, а мы
стоим у подножия горы в трехцветном огне, пожирающем и
сжигающем все, кроме белого пламени, которое есть символ самой
главной и самой сокровенной мудрости. Попробуем же поискать то,
что мы ищем, в белых чехлах!
Книг было немного - все поместилось в одном мешке. Они
нашли там одно из изданий Иуды Халеви ****, опубликованное в
Базеле в 1660 году, с приложением перевода текста с арабского
на древнееврейский, автором которого был раби Иегуда Абен
Тибон, и комментариями издателя на латыни. В остальных чехлах
были рукописи Коэна...
Переглянувшись в полумраке, раби и Нехама пересмотрели
оставшиеся белые чехлы и не нашли в них ничего, кроме
нескольких десятков сложенных по алфавиту различных слов, то
есть то, что Коэн называл "Хазарским словарем" ("Lexicon
Cosri") и что, как они поняли, было сложенными в алфавитном
порядке сведениями о хазарах, об их вере, обычаях и обо всех
людях, связанных с ними, с их историей и их обращением в
иудаизм. Это был материал, похожий на тот, что за много веков
до Коэна обработал Иуда Халеви в своей книге о хазарах, однако
Коэн пошел дальше, чем Халеви, он попытался глубже войти в суть
вопроса о том, кто были неназванные в книге Халеви христианский
и исламский участники полемики ****. Коэн стремился узнать
имена этих двоих, их аргументы и восстановить их биографии для
своего словаря, который, как он считал, должен был охватить и
те вопросы, которые в еврейских источниках о хазарах остались
без внимания. Так в словаре Коэна оказались и наброски
жизнеописания одного христианского проповедника и миссионера,
очевидно, того самого, о котором Коэн расспрашивал иезуитов, но
они были очень скудны, там не было имени, которое Коэну не
удалось узнать, и этот материал нельзя было включить в словарь.
"Иуда Халеви,- записал Коэн в комментарии к этой незаконченной
биографии, - его издатели и другие еврейские комментаторы и
источники называют имя только одного из трех участников в
религиозной полемике при дворе хазарского кагана. Это еврейский
представитель - Исаак Сангари***, который истолковал хазарскому
правителю сон о явлении ангела. Имен остальных участников
полемики - христианского и исламского - еврейские источники не
называют, там говорится только, что один из них философ, а про
другого, араба, даже не сообщают, убили ли его до или после
полемики. Может быть, где-то на свете, - писал дальше Коэн,-
кто-то еще собирает документы и сведения о хазарах, так же как
это делал Иуда Халеви, и составляет такой же свод источников
или словарь, как это делаю я. Может быть, это делает кто-то,
принадлежащий к иной вере - христианин или приверженец ислама.
Может быть, где-то в мире есть двое, которые ищут меня так же,
как я ищу их. Может быть, они видят меня во снах, как и я их,
жаждут того, что я уже знаю, потому что для них моя истина -
тайна, так же как и их истина для меня - сокрытый ответ на мои
вопросы. Не зря говорят, что шестидесятая доля каждого сна -
это истина. Может, и я не зря вижу во сне Царьград и себя в
этом городе вижу совсем не таким, каков на самом деле, а ловко
сидящим в седле и с быстрой саблей, хромым и верующим не в того
бога, в которого верую я. В Талмуде написано: "Пусть идет,
чтобы его сон был истолкован перед троицей!" Кто моя троица? Не
рядом ли со мною и второй, христианский охотник за хазарами, и
третий, исламский? Не живут ли в моих душах три веры вместо
одной? Не окажутся ли две мои души в аду и лишь одна в раю? Или
же всегда, как и в книге о сотворении света, необходима троица,
а кто-то один недостаточен, и поэтому я не случайно стремлюсь
найти двух других, как и они, вероятно, стремятся найти
третьего. Не знаю, но я ясно прочувствовал, что три мои души
воюют во мне, и одна из них с саблей уже в Царьграде, другая
сомневается, плачет и поет, играя на лютне, а третья против
меня. Та, третья, еще не дает о себе знать или же никак не
может до меня добраться. Поэтому я вижу во снах только того
первого, с саблей, а второго, с лютней, не вижу. Рав Хисда
говорит: "Сон, который не истолкован, подобен письму, которое
не прочитано", я же переиначиваю это и говорю: "Непрочитанное
письмо подобно сну, который не приснился". Сколько же мне снов
послано, которые я никогда не получил и не увидел? Этого я не
знаю, но знаю, что одна из моих душ может разгадать
происхождение другой души, глядя на чело спящего человека. Я
чувствую, что частицы моей души можно встретить среди других
человеческих существ, среди верблюдов, среди камней и растений;
чей-то сон взял материал от тела моей души и строит из него
свой дом где-то далеко. Мои души для своего совершенства ищут
содействия других душ, так души помогают друг другу. Я знаю,
мой хазарский словарь охватывает все десять чисел и 22 буквы
еврейского алфавита; из них можно построить мир, но вот ведь я
этого не умею. Мне не хватает некоторых имен, и некоторые места
для букв из-за этого останутся незаполненными. Как бы я хотел,
чтобы вместо словаря с именами можно было взять только одни
глаголы! Но человеку это не дано. Потому что буквы, которые
составляют глаголы, происходят от Элохима, они нам неизвестны,
и они суть не человечьи, но божьи, и только те буквы, которые
составляют имена, те, что происходят из Геенны и от дьявола,
только они составляют мой словарь, и только эти буквы доступны
мне. Так что мне придется держаться имен и дьявола..."
- Баал халомот! - воскликнул раби Папо, когда они дошли до
этого места в бумагах Коэна.- Не бредит ли он? - Я думаю иначе,
- отвечал Нехама и загасил свечу.
- Что ты думаешь? - спросил раби Папо и загасил
светильник, причем души прошептали каждая свое имя и исчезли.
- Я думаю, - ответил Нехама в полной темноте, такой, что
мрак комнаты смешивался с мраком его уст, - я думаю, что ему
больше подойдет - Землин, Кавала или Салоники?
- Салоники, еврейский город? - удивился раби Папо. - Какой
может быть разговор об этом? Его нужно сослать в рудники в
Сидерокапси!
- Мы отправим его в Салоники к его невесте, - заключил
второй старец задумчиво, и они вышли, не зажигая свет.
Так на судьбе Самуэля Козна была поставлена печать. Он был
изгнан из Дубровника и, как можно понять из донесения
жандармов, простился со своими знакомыми "на день святого
Фомы-апостола в 1689 году, когда стояла такая засуха, что у
скота линяли хвосты, а весь Страдун был покрыт птичьими
перьями". В тот вечер госпожа Ефросиния надела мужские брюки и
вышла в город, как любая женщина. Коэн в тот вечер последний
раз шел от аптеки к палаццо Спонза, и она под аркой у Гаришта
бросила ему под ноги серебряную монету. Он поднял монету и
подошел к ней, в темноту. Сначала он вздрогнул, думая, что
перед ним мужчина, однако стоило ей до него дотронуться
пальцами, как он сразу же ее узнал.
- Не уходи, - сказала она ему, - с судьями все можно
уладить. Только скажи. Нет такой ссылки, которую нельзя было бы
заменить недолгим заключением в береговых тюрьмах. Я суну кому
надо несколько золотых эскудо в бороду, и нам не придется
расставаться.
- Я должен уйти не потому, что я изгнан, - ответил Коэн,-
для меня эти их бумаги значат не больше, чем птичий помет. Я
должен идти, потому что сейчас крайний срок. С детства я вижу
во сне, как во мраке бьюсь с кем-то на саблях и хромаю. Я вижу
сны на языке, которого я не понимаю наяву. С первого такого сна
прошло двадцать два года, и наступило время, когда сон должен
сбыться. Тогда все станет ясно. Или сейчас, или никогда. А
прояснится все только там, где я вижу себя во снах - в
Царьграде. Потому что не напрасно мне снятся эти кривые улицы,
проложенные так, чтобы убивать ветер, эти башни и вода под
ними...
- Если мы больше не встретимся в этой жизни, - сказала на
это госпожа Ефросиния, - мы встретимся в какой-нибудь другой,
будущей. Может, мы лишь корни душ, которые прорастут
когданибудь. Может, твоя душа носит в себе, как плод, мою душу
и однажды родит ее, но до того обе они должны пройти путь,
который им предопределен...
- Даже если это так, то в том будущем мире мы не узнаем
друг друга. Твоя душа-это не душа Адама, та, которая изгнана в
души всех следующих поколений и осуждена умирать снова и снова
в каждом из нас.
- Если не так, то встретимся как-нибудь по-другому. И я
тебе скажу, как ты меня узнаешь. Я буду тогда мужского пола, но
руки у меня останутся такими же - каждая с двумя большими
пальцами, так что обе могут быть и левой и правой...
С этими словами госпожа Ефросиния поцеловала Коэна в
перстень, и они расстались навек. Смерть госпожи Лукаревич,
которая последовала вскоре и была так ужасна, что даже воспета
в народных песнях, не могла бросить тень на Коэна, потому что
он в то время, когда госпожа Ефросиния умерла, и сам уже впал в
свое оцепенение, в сон без возвращения и пробуждения.
Сначала все думали, что Коэн отправится в Салоники к своей
невесте Лидисии и там на ней женится, как и рекомендовала ему
еврейская община в Дубровнике. Но он этого не сделал. В тот
вечер он набил трубку, а утром выкурил ее в стане требиньского
Саблякпаши, который готовился к походу на Валахию. Так Коэн
вопреки всему направился в сторону Царьграда. Но он туда
никогда не попал. Очевидцы из свиты паши, которых подкупили
дубровницкие евреи, предложив им растительных красок для льна
за то, что они расскажут им о конце Коэна, говорят следующее:
В тот год паша направлялся со своей свитой на север, а
облака над ними все время летели на юг, будто хотели унести их
память. Уже одно это было плохим знаком. Не спуская глаз со
своих собак, они неслись через пахучие боснийские леса, как
сквозь времена года, и влетели на постоялый двор под Шабацем в
ночь лунного затмения. Один из жеребцов паши сломал ноги на
Саве, и он призвал своего смотрителя кладбища лошадей. Коэн,
однако, спал так крепко, что не слыхал, как его зовут, и паша
ударил его кнутом между глаз с оттяжкой, будто тащит воду из
колодца, и гривны на его руке зазвенели. Коэн в тот же миг
вскочил и бегом отправился выполнять свои обязанности. После
этого события следы Коэна на некоторое время исчезают, потому
что из лагеря паши он уходит в Белград, который тогда находился
в руках австрийцев. Известно, что в Белграде он посещал
огромный трехэтажный дом турецких сефардов, наполненный
сквозняками, которые свистели по всем коридорам... Он
остановился на старом постоялом дворе, в одной из его сорока
семи комнат, который принадлежал тамошним немецким евреям по
фамилии Ашкенази, и тут нашел книгу о толковании снов,
написанную на ладино - испанско-еврейском языке, на котором
говорят евреи в странах Средиземноморья...
Когда отряд Сабляк-паши вышел к Дунаю, одной из четырех
райских рек, которая символизирует аллегорический пласт в
Библии, Коэн опять присоединился к нему... И как только
начались первые перестрелки с сербами и австрийцами, паша
приказал отлить на Джердапе пушку, которая смогла бы стрелять
на три тысячи локтей ядрами вдвое тяжелее обычных...
Когда пушка была готова, начался обстрел австрийских
позиций. Сабляк повел в атаку весь свой отряд, и на сербские
позиции обрушились все, включая и Коэна, который вместо сабли
имел при себе только мешок для овса, хотя в нем, как нам уже
известно, не было ничего ценного, только старые, мелко
исписанные листы бумаги в белых чехлах.
- Под небом, густым, как похлебка, - рассказывал очевидец,
- влетели мы на одну из позиций, где застали трех человек, все
остальные в панике бежали. Двое играли в кости, не обращая на
нас никакого внимания. Возле них перед шатром, словно в бреду,
лежал какой-то богато одетый всадник, и на нас напали только
его собаки. В мгновение ока наши изрубили одного из игроков и
копьем пригвоздили к земле спящего всадника. Он, уже
пронзенный, приподнялся на локте и посмотрел на Коэна, и тот от
этого взгляда упал как подстреленный, и из мешка посыпались его
бумаги. Паша спросил, что это с Коэном, не убит ли он, на что
другой игрок ответил по-арабски: - Если его зовут Коэн, то его
сразила не пуля. Его свалил сон... Оказалось, что это правда, и
странные слова спасли игроку жизнь ровно на один день.
Кончается сообщение о Самуэле Коэне, еврее из
дубровницкого гетто, рассказом о его последнем сне, тяжелом и
глубоком забытьи, в котором он потонул безвозвратно, как в
глубоком море. Последний рассказ о Самуэле Коэне услышал
требиньский Сабляк-паша от того игрока, жизнь которого пощадили
на поле боя. То, что он тогда сказал паше, останется навсегда
зашитым в шелковый шатер на Дунае, и до нас дошли только
отрывки разговора, которые доносились из-за зеленой ткани, не
пропускавшей дождя. Игрока звали Юсуф Масуди, и он умел читать
сны. Он мог в чужом сне поймать даже зайца, а не то что
человека, и служил у того самого всадника, которого пробудили
копьем. Всадник этот был важным и богатым человеком, звали его
Аврам Бранкович, и одни его борзые стоили не меньше ладьи
пороха. Масуди рассказывал о нем невероятные вещи. Он уверял
Саблякпашу, что Коэн в своем тяжелом сне видел именно этого
Аврама Бранковича.
- Ты говоришь, что читаешь сны? - спросил его на это
Саблякпаша.- Можешь ты ли тогда прочитать и этот сон Коэна?
- Конечно, могу. Я уже вижу, что ему снится: поскольку
Бранкович умирает, он видит его смерть.
При этих словах паша как будто оживился.
- Это значит, - быстро сказал он, - что Коэн может сейчас
увидеть то, чего не может ни один смертный - видя во сне
умирающего Бранковича, он может пережить смерть и остаться
живым?
- Да, это так, - согласился Масуди,- но он не может
пробудиться и рассказать нам все, что он видел во сне.
- Но зато ты можешь увидеть, как он видит во сне эту
смерть... - Могу и завтра я расскажу вам, как умирает человек и
что он при этом чувствует...
Ни Сабляк-паша, ни мы никогда не узнаем, зачем предлагал
это игрок, то ли чтобы продлить хоть на один день свою жизнь,
то ли чтобы действительно посмотреть сон Коэна и найти там
смерть Бранковича. Паша все же решил, что стоит попробовать. Он
сказал, что каждый следующий день стоит столько же, сколько
неиспользованная подкова, а вчерашний столько, сколько
потерянная подкова, и оставил Масуди жить до утра.
Этой ночью Коэн спал в последний раз, его огромный, как
птица, нос высовывался из его улыбки во сне, а эта улыбка
походила на огрызок с какого-то давно съеденного обеда. Масуди
не отходил от его изголовья до утра, а когда рассвело, уже не
был похож на самого себя, его словно бичевали в тех снах,
которые он читал. А прочитал он в них следующее:
Бранкович будто и не умирал от раны, нанесенной копьем. Он
этой раны и не чувствовал. Он чувствовал сразу множество ран, и
число их росло со страшной быстротой. Ему чудилось, что он
стоит высоко на каком-то каменном столбе и считает. Была весна,
дул ветер, который заплетал ветки ив в косы, и все ивы от
Муреша до Тисы и Дуная стояли с косами. Что-то вроде стрел
вонзалось в его тело, но процесс этот тек в обратном
направлении: от каждой стрелы он сначала чувствовал рану, потом
укол, потом боль прекращалась, слышался в воздухе свист, и
наконец звенела тетива, отпуская стрелу. Так, умирая, он считал
эти стрелы, от одной до семнадцати, а потом он упал со столба и
перестал считать. При падении он столкнулся с чем-то твердым,
неподвижным и огромным. Но это была не земля. Это была
смерть...
А потом в этой же смерти он умер и во второй раз, хотя
казалось, что в ней нет места даже для малейшей боли. Между
ударами стрел он тоже умирал раз, но тогда совсем по-другому -
умирал недозрелой мальчишеской смертью, и единственное, чего он
боялся, - это не успеть справиться с огромной работой (потому
что смерть-это тяжелый труд), чтобы, когда придет миг падения
со столба, закончить и с другой смертью. Поэтому он напрягался
и спешил. В этой неподвижной спешке он лежал за пестрой
комнатной печью, сложенной в форме маленькой, как будто
игрушечной церковки с красными и золотыми куполами. Горячие и
ледяные приступы боли катились от его тела в комнату, как будто
из него освобождаются и быстро сменяют друг друга времена года.
Сумрак ширился, как влага, каждая комната в доме чернела
по-своему, и только окна были еще нагружены последним светом
дня, чуть более бледным, чем сумерки в комнате. Кто-то прошел
тогда из невидимых сеней, неся свечу; казалось, что на косяке
было столько черных дверей, сколько страниц в книге, вошедший
перелистал их быстро, так что свеча затрепетала, и шагнул в
комнату. Что-то потекло из него, и он выпустил из себя все свое
прошлое и остался пуст. А потом будто бы поднялись воды, и на
дворе поднялась ночь с земли на небо, и у него вдруг выпали
сразу все волосы, будто кто-то сбил шапку с его головы, которая
была уже мертвой.
И тогда во сне Коэна возникла и третья смерть Бранковича.
Она была едва заметна, заслонена чем-то, что могло быть
накопленным временем. Будто сотни лет стояли между двумя
первыми смертями Бранковича и третьей, которая едва была видна
с того места, где находился Масуди... Та, третья, смерть была
быстрой и короткой. Бранкович лежал в какой-то странной
постели, и какой-то мужчина, схватив подушку, начал душить его.
Все это время Бранкович думал только об одном - нужно схватить
яйцо, лежащее на столике рядом с кроватью, и разбить его.
Бранкович не знал, зачем это нужно, но пока его душили
подушкой, он понимал, что это единственное, что важно.
Одновременно он понял, что человек открывает свое вчера и
завтра с большим опозданием, через миллион лет после своего
возникновения - сначала завтра, а потом вчера. Он открыл их
одной давней ночью, когда в сумраке угасал настоящий день,
притиснутый и почти что прерванный между прошлым и будущим,
которые в ту ночь настолько разрослись, что почти соединились.
Было так и сейчас. Настоящий день угасал, задушенный между
двумя вечностями - прошлой и будущей, и Бранкович умер в третий
раз, в тот миг, когда прошлое и будущее столкнулись в нем и
раздавили его тогда, когда ему наконец удалось раздавить
яйцо...
И тут вдруг сон Коэна оказался пустым, как пересохшее
русло реки. Настало время пробуждения, но не было больше
никого, чтобы видеть во сне явь Коэна, как это при жизни делал
Бранкович. Вот так и с Коэном должно было случиться то, что
случилось. Масуди видел, как во сне Коэна, который превращался
в агонию, со всех вещей, окружавших его, как шапки, попадали
имена и мир остался девственно чист, как в первый день
сотворения. Только первые десять чисел и те буквы алфавита, что
означают глаголы, сверкали надо всем, что окружало Коэна, как
золотые слезы. И тогда он понял, что числа десяти заповедей -
это тоже глаголы и что, забывая язык, их забывают последними и
они остаются как отзвук, и даже тогда, когда сами заповеди уже
исчезли из памяти.
В этот миг Коэн проснулся в своей смерти, и перед Масуди
исчезли все пути, потому что над горизонтом опустилась пелена,
на которой водой из реки Яббок было написано: "Ибо ваши сны -
это дни в ночах".
ЛУКАРЕВИЧ (Luccari) ЕФРОСИНИЯ (XVII век) - дубровницкая
аристократка из рода Геталдич-Крухорадичей, замужем за одним из
аристократов рода Luccari... Была известна своим свободным
поведением и красотой; в свое оправдание она шутя говорила, что
страсть и честь по одной дорожке не ходят, и имела по два
больших пальца на каждой руке. Она всегда была в перчатках,
даже во время обеда, любила красные, голубые и желтые кушанья и
носила платья этих же цветов... Говорили, что она состоит в
тайной связи с одним евреем из дубровницкого гетто, по имени
Самуэль Коэн ***... Еще рассказывали, что девушкой она умела
колдовать, выйдя замуж, стала ведьмой, а после смерти должна
была три года пробыть вурдалаком, но в это последнее не все
верили, потому что считалось, что чаще всего такое происходит с
турками, реже с греками, а с евреями никогда. Что же касается
госпожи Ефросиний, о ней шушукались, что втайне она Моисеевой
веры.
Как бы то ни было, когда Самуэля Козна изгнали из
Дубровника, госпожа Ефросиния не осталась к этому равнодушной;
говорили, что она умрет от тоски, потому что с того дня она по
ночам, как камень на сердце, держала собственный кулак, сжатый
с двух сторон большими пальцами. Но вместо того, чтобы умереть,
она однажды утром исчезла из Дубровника, потом ее видели в
Конавле, на Данчах, как она в полдень сидит на могиле и
расчесывает волосы, позже рассказывали, что она отправилась на
север, в Белград, на Дунай, - в поисках своего любовника.
Услышав, что Коэн умер под Кладовом, она никогда больше не
вернулась домой. Остриглась и закопала волосы, и неизвестно,
что с ней потом стало...
Д-р ДОРОТА ШУЛЬЦ (Краков, 1944- ) - славист, профессор
университета в Иерусалиме; девичья фамилия - Квашневская. Ни в
бумагах Краковского Ягеллонского университета в Польше, который
окончила Квашневская, ни в документации Йельского университета
в США в связи с присвоением ученой степени доктора Дороте
Квашневской, нет сведений о ее происхождении. Дочь еврейки и
поляка, Квашневская родилась в Кракове при странных
обстоятельствах. Мать оставила ей талисман, принадлежавший
раньше отцу Дороты Квашневской. Текст был таким: "Сердце мое -
моя дочь; в то время как я равняюсь по звездам, оно равняется
по луне и по боли, которая ждет на краю всех скоростей..."
Квашневская никогда не смогла узнать, чьи это были слова. Брат
ее матери, Ашкенази Шолем, исчез в 1943 году во время немецкой
оккупации Польши и преследований евреев, однако перед
исчезновением ему удалось спасти сестру. Он, не раздумывая
долго, раздобыл для сестры фальшивые документы на имя какой-то
польки и женился на ней. Венчание состоялось в Варшаве, в
церкви святого Фомы, и считалось, что это брак между крещеным
евреем и полькой. Он курил вместо табака чай из мяты, и когда
его забрали, сестра, она же и жена, Анна Шолем, которую
продолжали считать полькой и которая носила девичью фамилию
какой-то неизвестной ей Анны Закевич, развелась со своим мужем
(и братом, о чем, правда, знала только она сама) и так спасла
свою жизнь. Сразу же после этого она опять вышла замуж за
некоего вдовца, по фамилии Квашневский, с глазами в мелких
пятнышках, как яйца; он был безрогим на язык и рогат в мыслях.
От него у Анны был один-единственный ребенок - Дорота
Квашневская. Закончив отделение славистики, Дорота переехала в
США, позже защитила там докторскую диссертацию по проблемам
древних славянских литератур, но когда Исаак Шульц, которого
она знала еще со студенческих лет, уехал в Израиль, она
присоединилась к нему. В 1967 году во время
израильско-египетской войны он был ранен, и Дорота в 1968 году
вышла за него замуж, осталась жить в Тель-Авиве и Иерусалиме,
читала курс истории раннего христианства у славян, однако
постоянно посылала на свое собственное имя письма в Польшу. На
конвертах она писала свой старый адрес в Кракове, и эти письма,
которые Квашневская, в замужестве Шульц, писала самой себе,
сохранила в Польше нераспечатанными ее бывшая краковская
хозяйка квартиры, надеясь, что когда-нибудь сможет вручить их
Квашневской. Письма эти короткие, кроме одного или двух, и
представляют собой нечто вроде дневника д-ра Дороты Шульц в
период с 1968 по 1982 год. Связь их с хазарами состоит в том,
что последнее письмо, написанное из следственной тюрьмы в
Царьграде, затрагивает вопрос о хазарской полемике ***. Письма
приводятся в хронологическом порядке.
1. Тель-Авив, 21 августа 1967.
Дорогая Доротка,
у меня здесь такое чувство, что я ем скоромное за чужой, а
пощусь за свой счет. Я знаю, что, пока я пишу тебе эти строки,
ты уже стала немного моложе меня, там, в своем Кракове, в нашей
комнате, где всегда пятница, где в нас пихали корицу, как будто
мы яблоки. Если ты когда-нибудь получишь это письмо, ты станешь
старше меня в тот момент, когда его прочтешь.
Исааку лучше, он лежит в прифронтовом госпитале, но быстро
поправляется, и это заметно по его почерку. Он пишет, что видит
во сне "краковскую тишину трехдневную, дважды разогревавшуюся,
немного подгоревшую на дне". Скоро мы встретимся, и я боюсь
этой встречи не только из-за его раны, о которой еще ничего не
знаю, но и потому, что все мы деревья, вкопанные в собственную
тень.
Я счастлива, что ты, которая не любит Исаака, осталась
там, далеко от нас. Теперь нам с тобой легче любить друг друга.
2. Иерусалим, сентябрь 1968.
Доротка,
всего несколько строк: запомни раз и навсегда - ты
работаешь, потому что не умеешь жить. Если бы ты умела жить, ты
бы не работала и никакая наука для тебя бы не существовала. Но
все учили нас только тому, как работать, и никто - как жить. И
вот я не умею.
Исаак вернулся. Когда он одет, его шрамы не видны, он так
же красив, как и раньше, и похож на пса, который научился петь
краковяк. Он любит мою правую грудь больше, чем левую, и мы
спим совершенно непристойно... Давай договоримся так: поделим
роли, ты там, в Кракове, продолжай заниматься наукой, а я буду
здесь учиться жить.
3. Хайфа, март 1971.
Дорогая и не забытая мною Доротея,
давно я тебя не видела, и кто знает, смогла ли бы узнать.
Может, и ты меня больше не узнала бы, может, ты обо мне больше
и не думаешь в нашей квартире, где дверные ручки цепляются за
рукава. Я вспоминаю польские леса и представляю себе, как ты
бежишь через вчерашний дождь, капли которого лучше слышны,
когда падают не с нижних, а с верхних веток. Я вспоминаю тебя
девочкой и вижу, как ты растешь быстро, быстрее, чем твои ногти
и волосы, а вместе с тобой, но только еще быстрее, растет в
тебе ненависть к нашей матери. Неужели мы должны были ее так
ненавидеть? Здешний песок вызывает во мне страстное желание, но
я уже долгое время чувствую себя с Исааком странно. Это не
связано ни с ним, ни с нашей любовью. Это связано с чем-то
третьим. С его раной. Он читает в постели, я лежу рядом с ним в
палатке и гашу свет, когда чувствую, что хочу его. Несколько
мгновений он остается неподвижным, продолжает в темноте
смотреть в книгу, и я ощущаю, как его мысли галопом несутся по
невидимым строчкам. А потом он поворачивается ко мне. Но стоит
нам прикоснуться друг к Другу, как я чувствую страшный шрам от
его раны. Мы занимаемся любовью, а потом лежим, глядя каждый в
свой мрак, и несколько вечеров назад я спросила его: - Это было
ночью?
- Что? - спросил он, хотя знал, о чем я говорю.
- Когда тебя ранили.
- Это было ночью.
- И ты знаешь чем?
- Не знаю, но думаю, что это был штык.
4. Иерусалим, октябрь 1974.
Дорогая Доротка,
я читаю о славянах, как они спускались к морям с копьем в
сапоге. И думаю о том, как меняется Краков, осыпанный новыми
ошибками в правописании и языке, сестрами развития слова. Я
думаю о том, как ты остаешься той же, а я и Исаак все больше
меняемся. Я не решаюсь ему сказать. Когда бы мы ни занимались
любовью, как бы нам ни было хорошо и что бы мы при этом ни
делали, я грудью и животом все время чувствую след от того
штыка. Я чувствую его уже заранее, этот след вытягивается между
мною и Исааком в нашей постели. Неужели возможно, чтобы человек
за один миг смог расписаться штыком на теле другого человека и
навсегда вытатуировать свой след в чужом мясе? Эта рана похожа
на какой-то рот, и стоит нам, Исааку и мне, дотронуться друг до
друга, как к моей груди прикасается этот шрам, похожий на
беззубый рот. Я лежу возле Исаака и смотрю на то место в
темноте, где он спит. Запах клевера заглушает запах конюшни. Я
жду, когда он повернется - сон становится тонким, когда человек
поворачивается, - тогда я смогу его разбудить, и ему не будет
жалко. Есть сны бесценные, а есть и другие, как мусор. Я бужу
его и спрашиваю: - Он был левша?
- Кажется, да, - отвечает он мне сонно, но твердо, из чего
мне ясно, что он знает, о чем я думаю. - Его взяли в плен и
утром привели в мою палатку. Он был бородатым, с зелеными
глазами и ранен в голову. Его привели, чтобы показать мне эту
рану. Ее нанес я. Прикладом.
5. Снова Хайфа, сентябрь 1975.
Доротка,
ты и не сознаешь, какая ты счастливица, что там, у себя на
Вавеле, не знаешь этого ужаса, в котором я живу. Представь
себе, что в постели, когда ты обнимаешь своего мужа, тебя
кусает и целует ктото другой. Между Исааком и мной лежит и
всегда будет лежать какойто бородатый сарацин с зелеными
глазами! Он откликается на каждое мое движение раньше Исаака,
потому что он ближе к моему телу, чем тело Исаака. И этот
сарацин не выдумка! Этот скот-левша, и он больше любит мою
левую грудь, чем правую! Какой ужас, Доротка! Ты не любишь
Исаака, как я, скажи мне, как объяснить ему все это? Я оставила
тебя и Польшу и приехала сюда ради Исаака, а в его объятиях
встретила зеленоглазое чудовище, оно просыпается ночью, кусает
меня беззубым ртом и хочет меня всегда. Исаак иногда заставляет
меня кончать на этом арабе. Он всегда тут! Он всегда может...
Наши стенные часы, Доротка, этой осенью спешат, а весной
они будут отставать...
6. Октябрь 1978.
Доротея,
араб насилует меня в объятиях моего мужа, и я больше уже
не знаю, с кем я наслаждаюсь в своей постели. Из-за этого
сарацина муж кажется мне иным, чем раньше, я теперь вижу и
понимаю его поновому, и это невыносимо. Прошлое внезапно
переменилось: чем больше наступает будущее, тем сильнее
изменяется прошлое, оно становится опаснее, оно непредсказуемо,
как завтрашний день, в нем на каждом шагу закрытые двери, из
которых все чаще выходят живые звери. И у каждого из них свое
имя. У того зверя, который разорвет Исаака и меня, имя
кровожадное и длинное. Представляешь, Доротка, я спросила
Исаака, и он мне ответил. Он это имя знал все время. Араба
зовут Абу Кабир Муавия**. И свое дело он уже начал как-то
ночью, в песке, недалеко от водопоя. Как и все звери.
7. Тель-Авив, 1 ноября 1978.
Дорогая, забытая Доротка,
ты возвращаешься в мою жизнь, но при ужасных
обстоятельствах. Там, в твоей Польше, среди туманов таких
тяжелых, что они тонут в воде, ты и не представляешь себе, что
я тебе готовлю. Пишу тебе из самых эгоистических соображений. Я
часто думаю, что лежу с широко открытыми глазами в темноте, а
на самом деле в комнате горит свет и Исаак читает, а я лежу,
закрыв глаза. Между нами в постели по-прежнему этот третий, но
я решилась на маленькую хитрость. Это трудно, потому что поле
боя ограничено телом Исаака. Уже несколько месяцев я бегу от
губ араба, передвигаюсь по телу моего мужа справа налево. И вот
когда я уже решила, что выбралась из западни, на другом краю
Исаакова тела налетела на засаду. На еще одни губы араба. За
ухом Исаака, под волосами я наткнулась на второй шрам, и мне
показалось, что Абу Кабир Муавия запихал мне в рот свой язык.
Ужас! Теперь я действительно в западне-если я сбегаю от одних
его губ, меня ждут вторые, на другом краю тела Исаака. Что мне
думать об Исааке? Я не могу больше ласкать его - от страха, что
мои губы встретятся с губами сарацина. Вся наша жизнь теперь
проходит под его знаком. Смогла бы ты в таких условиях иметь
детей? Но самое страшное случилось позавчера. Один из этих
сарацинских поцелуев напомнил мне поцелуй нашей матери. Сколько
лет я не вспоминала ее, и теперь вдруг она напомнила о себе. И
как! Пусть не похваляется тот, кто обувается так же, как тот,
кто уже разулся, но как это пережить?
Я прямо спросила Исаака, жив ли еще египтянин. И что, ты
думаешь, он ответил? Жив и даже работает в Каире. Его шаги, как
плевки, тянутся за ним по свету. Заклинаю тебя: сделай
что-нибудь! Может быть, ты спасла бы меня от этого незваного
любовника, если бы отвлекла его похоть на себя, ты бы спасла и
меня, и Исаака. Запомни это проклятое имя-Абу Кабир Муавия,- и
давай возьмем каждая свое: ты бери этого леворукого араба в
свою постель в Кракове, а я попытаюсь сохранить для себя
Исаака.
8
Department of Slavic studies
University of Yale USA
October 1980.
Дорогая мисс Квашневская,
пишет тебе твоя д-р Шульц. Я пишу в перерыве между двумя
лекциями. У нас с Исааком все в порядке. Уши мои еще полны его
засушенных поцелуев. Мы почти помирились, и теперь наши постели
на разных континентах. Я много работаю. После почти
десятилетнего перерыва я снова участвую в научных конференциях.
И скоро мне опять предстоит поездка, на этот раз ближе к тебе.
Через два года в Царьграде состоится научная конференция по
вопросам Черноморского побережья. Я готовлю доклад. Ты помнишь
профессора Wyke и твою дипломную работу "Жития Кирилла и
Мефодия, славянских просветителей"? Помнишь исследование
Дворника, которым мы тогда пользовались? Сейчас он выпустил
второе, дополненное издание (1969), и я его буквально
проглотила, настолько оно интересно. В моей работе речь пойдет
о хазарской миссии Кирилла * и Мефодия *, той самой, важнейшие
сведения о которой - записи самого Кирилла - утеряны.
Неизвестный составитель жития Кирилла пишет, что свою
аргументацию в хазарской полемике *** Кирилл оставил при дворе
кагана в особых книгах, так называемых "Хазарских проповедях".
"Кто хочет найти полностью эти проповеди, -отмечает биограф
Кирилла,-найдет их в книгах Кирилла, которые перевел учитель
наш и архиепископ Мефодий, брат Константина Философа, поделив
их на восемь проповедей". Просто невероятно, что целые книги,
восемь проповедей христианского святого и создателя славянской
письменности, написанные на греческом и переведенные на
славянский язык, исчезли без следа! Не потому ли, что в них
было слишком много еретического? Не было ли в них
иконоборческой окраски, что было полезно в полемике, но не
соответствовало догматам, из-за чего потом их и изъяли из
употребления? Я еще раз перелистала Ильинского, всем нам хорошо
известный "Обзор систематизированной библиографии Кирилла и
Мефодия" до 1934 года, а потом его продолжателей (Попруженко,
Романского, Петковича и т. д.). Снова прочла Мошина. И потом
перечитала всю приведенную там литературу о хазарском вопросе.
Но нигде нет упоминания о том, что "Хазарские проповеди" особо
привлекли чье-то внимание. Как могло получиться, что все
бесследно исчезло? Этот вопрос все оставляют без внимания. А
ведь существовал не только греческий канонический текст, но и
славянский перевод, из чего можно сделать вывод, что это
произведение некоторое время имело очень широкое хождение.
Причем не только в хазарской миссии, но и позже; его
аргументация должна была бы использоваться и в славянской
миссии братьев из Салоник, и даже в полемике со сторонниками
"трехъязычия". Иначе зачем бы им было переводить это на
славянский язык? Я думаю, что наверное можно напасть на след
"Хазарских проповедей" Кирилла, если искать методом
сопоставления. Если систематически пересмотреть исламские и
еврейские источники о хазарской полемике, наверняка там
что-нибудь да всплывет о "Хазарских проповедях". Но дело в том,
что я не могу сделать это сама, это вообще не по силам одним
славистам, нужно участие и востоковедов, и специалистов по
древней еврейской культуре, Я посмотрела у Dunlop'a (History of
Jewish Khazars, 1954), но и там нет ничего, что могло бы
навести на след утраченных "Хазарских проповедей" Константина
Философа.
Видишь, не только ты в своем Ягеллонском университете
занимаешься наукой, я здесь тоже. Я вернулась к своей
специальности, к своей молодости, которая по вкусу похожа на
фрукты, доставленные пароходом с другого берега океана. Я хожу
в соломенной шляпе вроде корзинки. В ней можно, не снимая ее с
головы, принести с рынка черешню. Я 'старею всякий раз, как в
Кракове бьет полночь на городских часах, и просыпаюсь, когда
над Вавелем раздается звон часов. Я завидую твоей вечной
молодости. Как поживает твой Абу Ка-бир Муавия? Действительно
ли у него, как в моих снах, два копченых сухих уха и хорошо
выжатый нос? Спасибо, что ты его взяла на себя. Вероятно, ты
уже все знаешь о нем. Представь, он занят делом, весьма близким
к тому, чем занимаемся мы с тобой! Мы с ним работаем почти что
в одной области. Он преподает в Каирском университете
сравнительную историю религий Ближнего Востока и занимается
древнееврейской историей. Ты с ним мучаешься так же, как и я?
Любящая тебя д-р Шульц.
9. Иерусалим, январь 1981.
Доротка,
произошло невероятное. Вернувшись из Америки, я нашла в
нераспечатанной почте список участников той самой конференции о
культурах Черноморского побережья. Ты себе не представляешь,
кого я увидела в этом списке! А может, ты это узнала раньше
меня благодаря своей провидческой душе, которой не требуется
парикмахерская завивка? Араб, собственной персоной, тот самый,
с зелеными глазами, который изгнал меня из постели моего мужа.
Он будет на конференции в Царьграде. Однако не хочу вводить
тебя в заблуждение. Он приедет не для того, чтобы повидаться со
мной. Но я еду в Царьград, чтобы наконец-то его увидеть. Я уже
давно рассчитала, что наши профессии близки настолько, что
достаточно просто участвовать в научных конференциях, чтобы в
конце концов пересеклись и наши пути. В моей сумке лежит доклад
о хазарской миссии Кирилла и Мефодия, а под ним - S&W модель
36, калибр 38. Спасибо тебе за напрасные попытки взять на себя
д-ра Абу Кабира Муавию. Теперь я беру его на свою душу. Люби
меня так же, как ты не любишь Исаака. Сейчас мне это нужнее,
чем когда бы то ни было. Наш общий отец нам поможет...
10. Царьград, отель "Кингстон", 1 октября 1982.
Дорогая Доротея,
наш общий отец мне поможет, так я написала тебе в
последний раз. Что ты знаешь о нашем общем отце, бедная моя
глупышка? В твоем возрасте и я ничего не знала, так же как ты
сейчас. Но моя новая жизнь дала мне время, чтобы думать. Знаешь
ли ты, кто твой настоящий отец, детка? Ты думаешь, тот самый
поляк с бородой, похожей на пук травы, который дал тебе фамилию
Квашневская и отважился жениться на твоей матери, Анне Шолем?
Думаю, что нет. Попытайся вспомнить того, кого мы не могли
никак запомнить? Помнишь некоего Шолема Ашкенази, юношу на
фотографиях, с криво сидящими на носу очками и с другой их
парой, торчащей из жилетки. Того, который курит вместо табака
чай и у которого красивые волосы налезают на сфотографированные
уши. Того, который, как нам рассказывали, говорил, что "нас
спасет наша мнимая жертва". Помнишь брата и первого мужа нашей
матери, Анны Шолем, псевдоЗакевич в девичестве, Шолем по
первому и Квашневскую по второму мужу? И знаешь ли ты, кто был
первым отцом ее дочерей, твоим и моим? Ну, вспомнила наконец
через столько лет? Твой дядя и брат матери прекрасно мог быть и
нашим отцом, не правда ли? А почему, собственно, им не мог бы
быть муж твоей матери? Что ты думаешь о таком раскладе, дорогая
моя? Может быть, госпожа Шолем не имела мужчин до брака и не
могла повторно выйти замуж девушкой? Возможно, поэтому она
напоминает о себе таким неожиданным образом, неся с собой ужас.
Как бы то ни было, ее старания не пропали даром, и я думаю, что
моя мать, если и сделала так, была права тысячу раз, и если я
могу выбирать, то я выбираю отцом охотнее, чем кого бы то ни
было, брата моей матери. Несчастье, дорогая моя Доротея,
несчастье учит нас читать нашу жизнь в обратном направлении...
Здесь, в Царьграде, я уже кое с кем познакомилась. Мне не
хочется показаться кому-то странной, и я болтаю со всеми, не
закрывая рта. Один из моих коллег, приехавший на эту
конференцию,доктор Исайло Сук **. Он археолог, медиевист,
прекрасно знает арабский, мы говорим с ним по-немецки, шутим
по-польски, потому что он знает сербский и считает себя молью
собственного платья. Его семья уже сто лет переселяет из дома в
дом одну и ту же изразцовую печь, а он считает, что XXI век
будет отличаться- от нашего тем, что люди наконец-то единодушно
восстанут против скуки, которая сейчас затопляет их, как
грязная вода. Камень скуки, говорит д-р Сук, мы несем на плечах
на огромный холм, подобно Сизифу. Наверное, люди будущего
соберутся с духом и восстанут против этой чумы, против скучных
школ, скучных книг, против скучной музыки, скучной науки,
скучных встреч, и тогда они исключат тоску из своей жизни, из
своего труда, как этого и требовал наш праотец Адам. Говорит он
это не совсем серьезно, а когда пьет вино, не позволяет
доливать в свой бокал, потому что, считает он, бокал не кадило,
чтобы добавлять в него прежде, чем он иссяк. По его учебникам
учатся во всем мире, но он сам преподавать по ним не может. Он
должен преподавать в университете что-то другое. Его
исключительные знания в своей области никак не соответствуют
его крайне незначительному научному авторитету. Когда я ему
сказала об этом, он улыбнулся и объяснил мне это так:
- Дело в том, что вы можете стать великим ученым или
великим скрипачом (а знаете ли вы, что все великие скрипачи,
кроме Паганини, были евреями?), только если вас поддержит и
встанет за спиной у вас и ваших достижений один из мощных
интернационалов современного мира. Еврейский, исламский или
католический интернационал. Вы принадлежите к одному из них. Я
ни к какому, поэтому я и неизвестен. Между моими пальцами давно
уже проскочили все рыбы.
- О чем это вы говорите? - спросила я его изумленно. - Это
парафраз одного хазарского текста, примерно тысячелетней
давности. А вы, судя по названию доклада, который вы нам
прочтете, весьма осведомлены о хазарах. Почему же вы тогда
удивляетесь? Или вы никогда не встречали издание Даубмануса?
Должна признаться, что он меня смутил. Особенно когда
упомянул "Хазарский словарь" Даубмануса. Если такой словарь
когда-либо и существовал, ни один экземпляр его, насколько мне
известно, не сохранился.
Дорогая Доротка, я вижу снег в Польше, вижу, как снежинки
превращаются в твоих глазах в слезы. Вижу хлеб, насаженный на
шест со связкой лука, и птиц, которые греются в дыме над
домами. Д-р Сук говорит, что время приходит с юга и переходит
Дунай на месте Траянова моста. Здесь нет снега, и облака похожи
на остановившиеся волны, которые выбрасывают рыбу. Д-р Сук
обратил мое внимание еще на одно обстоятельство. В нашем отеле
остановилась чудесная бельгийская семья, их фамилия Ван дер
Спак. Семья, какой у нас никогда не было и какой не будет у
меня. Отец, мать и сын. Д-р Сук называет их "святое семейство".
Каждое утро во время завтрака я наблюдаю, как они едят; все они
упитаны, а господин Спак, как я случайно слышала, однажды в
шутку сказал: на толстую кошку блоха не пойдет... Он прекрасно
играет на каком-то инструменте, сделанном из панциря белой
черепахи, а бельгийка занимается живописью. Рисует она левой
рукой, и при этом очень хорошо, на всем, что ей попадается: на
полотенцах, стаканах, ножах, на перчатках своего сына. Их
мальчику года четыре. У него коротко подстриженные волосы,
зовут его Мануил, и он только недавно научился составлять свои
первые фразы. Съев булочку, он подходит к моему столу и
застывает, глядя на меня так, как будто влюблен. Глаза его в
пятнышках, напоминающих мелкие камешки на тропинке, и он
постоянно спрашивает меня: "Ты меня узнала?" Я глажу его по
голове, словно глажу птицу, а он целует мне пальцы. Он приносит
мне трубку своего отца, похожего на цадика, и предлагает
покурить. Ему нравится все красного, голубого и желтого цветов.
И он любит есть все, что этого цвета. Я ужаснулась, когда
заметила один его физический недостатокна каждой руке у него по
два больших пальца. Никогда не могу разобрать, какая рука у
него правая, а какая левая. Но он еще не понимает, как
выглядит, и не прячет от меня свои руки, хотя родители все
время надевают ему перчатки. Иногда, не знаю, поверишь ли ты,
мне это совсем не мешает и перестает казаться чем-то
неестественным.
Да может ли мне вообще что-то мешать, если сегодня утром
за завтраком я услышала, что на конференцию прибыл и д-р Абу
Кабир Муавия. "...Мед источают уста чужой жены, и мягче елея
речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как
меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают
преисподней". Так написано в Библии.
11. Царьград, 8 октября 1982.
Мисс Доротее Квашневской - Краков.
Я потрясена твоим эгоизмом и безжалостностью приговора. Ты
уничтожила и мою жизнь, и жизнь Исаака. Я всегда боялась твоей
науки и предчувствовала, что она несет мне зло. Надеюсь, ты
знаешь, что случилось и что ты наделала. В то утро я вышла
завтракать, твердо решив стрелять в Муавию, как только он
появится во внутреннем садике отеля, где мы завтракаем. Я
сидела и ждала; наблюдала, как тени птиц, пролетающих над
гостиницей, стремительно скользят по стене. И тогда случилось
то, чего никоим образом нельзя было предусмотреть. Появился
человек, и я сразу поняла, кто это. Лицо его было темным, как
хлеб, волосы с сединой, будто у него в усах застряли рыбьи
кости. Только на виске из шрама растет пучок диких, совершенно
черных волос, они у него не седеют. Д-р Муавия подошел прямо к
моему столу и попросил разрешения сесть. Он заметно хромал, и
один его глаз был прищурен, как маленький закрытый рот. Я
замерла, потом в сумке сняла с предохранителя револьвер и
оглянулась. В саду кроме нас был только один четырехлетний
Мануил; он играл под соседним столом.
- Разумеется, - сказала я, и человек положил на стол
нечто, что навсегда изменило мою жизнь. Это была стопка бумаг.
- Я знаю тему вашего доклада, - так сказал он садясь, - и
именно поэтому хотел проконсультироваться по одному вопросу,
связанному с ней.
Мы говорили по-английски, у него немного стучали зубы, ему
было холоднее, чем мне, губы его тряслись, но он ничего не
делал, чтобы унять дрожь. Он грел пальцы о свою трубку и вдувал
дым в рукава. Вопрос его касался "Хазарских проповедей" Кирилла
и Мефодия.
- Я просмотрел, - сказал он, - всю литературу, которая
относится к "Хазарским проповедям", и нигде не нашел никакого
упоминания о том, что эти тексты дошли до наших дней. Отрывки
из "Хазарских проповедей" Кирилла сохранились и даже были
напечатаны несколько сотен лет назад, и мне представляется
невероятным, что никто об этом не знает.
Я была потрясена. То, что утверждает этот человек, могло
было бы стать крупнейшим открытием в моей области - славистике
- за все время ее существования. Если это действительно так.
- Почему вы так думаете? - спросила я его, пораженная, и
не очень уверенно изложила ему свое мнение по этому вопросу. -
"Хазарские проповеди" Кирилла, - сказала я, - науке неизвестны,
о них лишь упоминается в житии Кирилла, откуда мы и знаем, что
они существовали. О какой-то сохранившейся рукописи или же об
опубликованном тексте этих проповедей смешно говорить.
- Это-то я и хотел проверить, - проговорил д-р Муавия, - с
настоящего момента будет известно, что верно совершенно
обратное...
И он протянул мне те самые бумаги - ксерокопии, - которые
лежали перед ним. Передавая мне эту пачку, он на мгновение
прикоснулся своим большим пальцем к моему, и от этого
прикосновения у меня по телу пробежали мурашки. У меня было
такое чувство, что наше прошлое и настоящее сконцентрировалось
в наших пальцах и соприкоснулось. Когда я спросила д-ра Муавию,
как они к нему попали, он ответил нечто такое, что привело меня
в еще большее изумление:
- Важно вовсе не то, как они ко мне попали. В XII веке они
оказались в руках вашего соплеменника, поэта Иуды Халеви, он
внес их в свой трактат о хазарах. Описывая известную полемику,
он привел слова ее христианского участника, называя его
"философом", то есть так же, как это лицо называет и автор
жития Кирилла в связи с той же полемикой. Таким образом, имя
Кирилла в этом еврейском источнике не названо, как и имя
арабского участника, приводится только звание христианского
участника - Кирилла, а это и есть причина того, что до сих пор
никто не искал текст Кирилла в хазарской хронике Иуды Халеви.
Я смотрела на д-ра Муавию, и мне казалось, что он не имеет
никакого отношения к тому раненому человеку с зелеными глазами,
который несколько мгновений назад сел за мой стол. Все было
настолько убедительно и ясно, так соответствовало уже известным
науке фактам, что просто удивительно, почему раньше никому не
пришло в голову искать этот текст таким способом.
- Здесь имеется одна неувязка, - сказала я наконец д-ру
Муавии, - текст Халеви относится к VIII веку, а хазарская
миссия Кирилла была в девятом столетии: в 861 году.
- Тот, кто знает истинный путь, может идти и в обход! -
заметил на это Муавия.- Нас интересуют не даты, а то, были ли у
Халеви, который жил позже Кирилла, под рукой его "Хазарские
проповеди", когда он писал свою книгу о хазарах. И использовал
ли он их в этой книге, там, где он приводит слова христианского
участника хазарской полемики. Скажу сразу, в словах
христианского мудреца у Халеви есть несомненные совпадения с
теми аргументами Кирилла, которые дошли до нас. Мне известно,
что вы переводили на английский житие Кирилла, и, конечно, вы
сможете без труда узнать отдельные фрагменты, Послушайте меня и
скажите, чей, например, это текст, в котором говорится о том,
что человек занимает место посередине между ангелами и
животными...
Разумеется, я тут же вспомнила это место и привела его
наизусть: - "Бог, создавший свет, создал человека между ангелом
и животным, речью и разумом отделив его от животных, а гневом и
похотью от ангелов, и через эти свойства он и приближается или
к высшим или к низшим". Это, - заметила я, цитируя текст, -
часть жития об агарянской миссии Кирилла.
- Совершенно верно, но точно то же мы встречаем и в пятой
части книги Халеви, где он полемизирует с Философом. Есть и
другие совпадения. Самое же важное то, что в самой речи,
которую в хазарской полемике Халеви приписывает христианскому
ученому, рассматриваются вопросы, которые Кирилл, как видно из
жития, обсуждал во время полемики. В обоих текстах говорится о
Святой Троице и законах, существовавших до Моисея, о запретах
на некоторые виды мяса и, наконец, о врачах, которые лечат
противно тому, как нужно. Приводится тот же аргумент, что душа
сильнее всего тогда, когда тело самое слабое (около
пятидесятого года жизни) и т. д. Наконец, хазарский каган
упрекает арабского и еврейского участников полемики - все это
согласно Халеви,- что их книги откровений (Коран и Тора)
написаны на языках, ничего не значащих для хазар, индусов и
других народов, которые их не понимают. Это один из
существенных аргументов, который приводится и в житии Кирилла,
когда речь идет о борьбе против сторонников трехъязычия (то
есть тех, кто считал языками богослужения только греческий,
древнееврейский и латинский), так что ясно, что в этом вопросе
каган был под влиянием христианского участника полемики и
выдвигал доводы, о которых мы и от другой стороны знаем, что
они принадлежат действительно Кириллу. Халеви это только
пересказал.
Наконец, нужно обратить внимание еще на две вещи.
Вопервых, мы не знаем всего, что содержалось в потерянных
"Хазарских проповедях" Константина Солунского (Кирилла), и не
знаем, что из этого передано в тексте Халеви. Значит, можно
предположить, что такого материала имеется больше, чем я здесь
привел. Второе: целостность текста Халеви, именно в той его
части, которая относится к христианскому участнику полемики,
серьезно нарушена. Эта часть не сохранилась в арабском
источнике, она имеется только в появившемся позже еврейском
переводе, в то время как напечатанные издания Халеви, особенно
те, которые относятся к XVI веку, подвергались, как известно,
цензуре христианской церкви.
Короче говоря, книга Халеви о хазарах донесла до нас, хотя
мы сегодня не знаем, в каком объеме, часть "Хазарской
проповеди" Кирилла. Впрочем, здесь, в Царьграде, - закончил д-р
Муавия,- в нашей конференции будет участвовать и некий д-р
Исайло Сук, который хорошо говорит по-арабски и занимается
исламскими источниками о хазарской полемике. Он мне сказал, что
у него имеется хазарский словарь XVII века, который издал некий
Даубманус, и что из этого словаря видно, что Халеви использовал
"Хазарские проповеди" Кирилла. Я пришел попросить вас
поговорить с д-ром Суком. Со мной он говорить вряд ли станет.
Его интересуют только арабы, жившие тысячу лет назад или
раньше. Для остальных у него нет времени. Не поможете ли вы мне
познакомиться с д-ром Суком и прояснить эту проблему...
Так закончил свой рассказ д-р Абу Кабир Муавия, и в моем
мозгу мгновенно связались все нити. Когда забываешь, в каком
направлении истекает время, определить это помогает любовь. Из
нее время всегда вытекает. Спустя столько лет опять охватила
меня твоя проклятая страсть к науке, и я предала Исаака. Вместо
того чтобы стрелять, я побежала искать д-ра Сука, оставив свои
бумаги и под ними оружие. У входа не было никого из прислуги,
на кухне кто-то обмакивал кусок хлеба в огонь и ел его. Я
увидела Ван дер Спака, который выходил из комнаты, и поняла,
что это комната д-ра Сука. Я постучала, но никто не отозвался.
Где-то у меня за спиной часто капали шаги, а между ними я
чувствовала жар женского тела. Я постучала опять, и тогда от
моего стука дверь слегка приоткрылась.'0нане была закрыта на
ключ. Сначала я увидела только ночной столик и на нем блюдечко,
в котором лежали яйцо и ключ. Открыв дверь шире, я вскрикнула.
Д-р Сук лежал в постели, задушенный подушкой. Он лежал закусив
усы, будто спеша навстречу ветру. Я с криком бросилась бежать,
и тут из сада послышался выстрел. Выстрел был один, но я
слышала его каждым ухом отдельно. Я сразу же узнала звук своего
револьвера. Влетев в сад, я увидела, что д-р Муавия лежит на
дорожке с размозженной головой... За соседним столом ребенок в
перчатках пил свой шоколад, будто ничего не произошло... Больше
никого в саду не было.
Меня сразу же арестовали. Смит-Вессон, на котором найдены
только мои отпечатки пальцев, приложен в качестве улики, и меня
обвиняют в преднамеренном убийстве д-ра Абу Кабира Муавии. Это
письмо я пишу тебе из следственной тюрьмы и все еще ничего не
могу понять. Источник сладкой воды в устах своих ношу и меч
обоюдоострый... Кто убил д-ра Муавию? Представляешь, обвинение
гласит: еврейка убила араба из мести! Весь исламский
интернационал, вся египетская и турецкая общественность
восстанут против меня. "Поразит перед тобою Господь врагов
твоих, восстающих против тебя; одним путем они выступят против
тебя, а семью путями побегут от тебя". Как доказать, что ты не
сделал того, что действительно собирался сделать? Нужно найти
жестокую ложь, ложь страшную и сильную, как отец дождя, чтобы
доказать истину. Рога вместо глаз нужны тому, кто хочет
выдумать такую ложь. Если найду ее, останусь жить и заберу тебя
из Кракова к себе в Израиль, опять вернусь к наукам нашей
молодости. Спасет нас наша мнимая жертва - так говорил один из
двух наших отцов... Как тяжело выдержать милость Его, а тем
более гнев.
Теперь раби Папо и Ицхак Нехама поняли, что души Коэна
поссорились из-за мешочков с рукописями, но их было так много,
что казалось невозможным пересмотреть все. Тогда раби Абрахам
спросил: - Думаешь ли ты о цвете этих чехлов то же, что и я?
- Разве не видно, что они того же цвета, что и пламя? -
заметил Нехама.- Посмотри на свечу. Ее пламя состоит из
нескольких цветов: голубой, красный, черный, этот трехцветный
огонь обжигает и всегда соприкасается с той материей, которую
он сжигает, с фитилем и маслом. Вверху, над этим трехцветным
огнем, второе белое пламя, поддерживаемое нижним, не обжигает,
но светит, то есть это огонь, питаемый огнем. Моисей на горе
стоял в этом белом пламени, которое не обжигает, а светит, а мы
стоим у подножия горы в трехцветном огне, пожирающем и
сжигающем все, кроме белого пламени, которое есть символ самой
главной и самой сокровенной мудрости. Попробуем же поискать то,
что мы ищем, в белых чехлах!
Книг было немного - все поместилось в одном мешке. Они
нашли там одно из изданий Иуды Халеви ****, опубликованное в
Базеле в 1660 году, с приложением перевода текста с арабского
на древнееврейский, автором которого был раби Иегуда Абен
Тибон, и комментариями издателя на латыни. В остальных чехлах
были рукописи Коэна...
Переглянувшись в полумраке, раби и Нехама пересмотрели
оставшиеся белые чехлы и не нашли в них ничего, кроме
нескольких десятков сложенных по алфавиту различных слов, то
есть то, что Коэн называл "Хазарским словарем" ("Lexicon
Cosri") и что, как они поняли, было сложенными в алфавитном
порядке сведениями о хазарах, об их вере, обычаях и обо всех
людях, связанных с ними, с их историей и их обращением в
иудаизм. Это был материал, похожий на тот, что за много веков
до Коэна обработал Иуда Халеви в своей книге о хазарах, однако
Коэн пошел дальше, чем Халеви, он попытался глубже войти в суть
вопроса о том, кто были неназванные в книге Халеви христианский
и исламский участники полемики ****. Коэн стремился узнать
имена этих двоих, их аргументы и восстановить их биографии для
своего словаря, который, как он считал, должен был охватить и
те вопросы, которые в еврейских источниках о хазарах остались
без внимания. Так в словаре Коэна оказались и наброски
жизнеописания одного христианского проповедника и миссионера,
очевидно, того самого, о котором Коэн расспрашивал иезуитов, но
они были очень скудны, там не было имени, которое Коэну не
удалось узнать, и этот материал нельзя было включить в словарь.
"Иуда Халеви,- записал Коэн в комментарии к этой незаконченной
биографии, - его издатели и другие еврейские комментаторы и
источники называют имя только одного из трех участников в
религиозной полемике при дворе хазарского кагана. Это еврейский
представитель - Исаак Сангари***, который истолковал хазарскому
правителю сон о явлении ангела. Имен остальных участников
полемики - христианского и исламского - еврейские источники не
называют, там говорится только, что один из них философ, а про
другого, араба, даже не сообщают, убили ли его до или после
полемики. Может быть, где-то на свете, - писал дальше Коэн,-
кто-то еще собирает документы и сведения о хазарах, так же как
это делал Иуда Халеви, и составляет такой же свод источников
или словарь, как это делаю я. Может быть, это делает кто-то,
принадлежащий к иной вере - христианин или приверженец ислама.
Может быть, где-то в мире есть двое, которые ищут меня так же,
как я ищу их. Может быть, они видят меня во снах, как и я их,
жаждут того, что я уже знаю, потому что для них моя истина -
тайна, так же как и их истина для меня - сокрытый ответ на мои
вопросы. Не зря говорят, что шестидесятая доля каждого сна -
это истина. Может, и я не зря вижу во сне Царьград и себя в
этом городе вижу совсем не таким, каков на самом деле, а ловко
сидящим в седле и с быстрой саблей, хромым и верующим не в того
бога, в которого верую я. В Талмуде написано: "Пусть идет,
чтобы его сон был истолкован перед троицей!" Кто моя троица? Не
рядом ли со мною и второй, христианский охотник за хазарами, и
третий, исламский? Не живут ли в моих душах три веры вместо
одной? Не окажутся ли две мои души в аду и лишь одна в раю? Или
же всегда, как и в книге о сотворении света, необходима троица,
а кто-то один недостаточен, и поэтому я не случайно стремлюсь
найти двух других, как и они, вероятно, стремятся найти
третьего. Не знаю, но я ясно прочувствовал, что три мои души
воюют во мне, и одна из них с саблей уже в Царьграде, другая
сомневается, плачет и поет, играя на лютне, а третья против
меня. Та, третья, еще не дает о себе знать или же никак не
может до меня добраться. Поэтому я вижу во снах только того
первого, с саблей, а второго, с лютней, не вижу. Рав Хисда
говорит: "Сон, который не истолкован, подобен письму, которое
не прочитано", я же переиначиваю это и говорю: "Непрочитанное
письмо подобно сну, который не приснился". Сколько же мне снов
послано, которые я никогда не получил и не увидел? Этого я не
знаю, но знаю, что одна из моих душ может разгадать
происхождение другой души, глядя на чело спящего человека. Я
чувствую, что частицы моей души можно встретить среди других
человеческих существ, среди верблюдов, среди камней и растений;
чей-то сон взял материал от тела моей души и строит из него
свой дом где-то далеко. Мои души для своего совершенства ищут
содействия других душ, так души помогают друг другу. Я знаю,
мой хазарский словарь охватывает все десять чисел и 22 буквы
еврейского алфавита; из них можно построить мир, но вот ведь я
этого не умею. Мне не хватает некоторых имен, и некоторые места
для букв из-за этого останутся незаполненными. Как бы я хотел,
чтобы вместо словаря с именами можно было взять только одни
глаголы! Но человеку это не дано. Потому что буквы, которые
составляют глаголы, происходят от Элохима, они нам неизвестны,
и они суть не человечьи, но божьи, и только те буквы, которые
составляют имена, те, что происходят из Геенны и от дьявола,
только они составляют мой словарь, и только эти буквы доступны
мне. Так что мне придется держаться имен и дьявола..."
- Баал халомот! - воскликнул раби Папо, когда они дошли до
этого места в бумагах Коэна.- Не бредит ли он? - Я думаю иначе,
- отвечал Нехама и загасил свечу.
- Что ты думаешь? - спросил раби Папо и загасил
светильник, причем души прошептали каждая свое имя и исчезли.
- Я думаю, - ответил Нехама в полной темноте, такой, что
мрак комнаты смешивался с мраком его уст, - я думаю, что ему
больше подойдет - Землин, Кавала или Салоники?
- Салоники, еврейский город? - удивился раби Папо. - Какой
может быть разговор об этом? Его нужно сослать в рудники в
Сидерокапси!
- Мы отправим его в Салоники к его невесте, - заключил
второй старец задумчиво, и они вышли, не зажигая свет.
Так на судьбе Самуэля Козна была поставлена печать. Он был
изгнан из Дубровника и, как можно понять из донесения
жандармов, простился со своими знакомыми "на день святого
Фомы-апостола в 1689 году, когда стояла такая засуха, что у
скота линяли хвосты, а весь Страдун был покрыт птичьими
перьями". В тот вечер госпожа Ефросиния надела мужские брюки и
вышла в город, как любая женщина. Коэн в тот вечер последний
раз шел от аптеки к палаццо Спонза, и она под аркой у Гаришта
бросила ему под ноги серебряную монету. Он поднял монету и
подошел к ней, в темноту. Сначала он вздрогнул, думая, что
перед ним мужчина, однако стоило ей до него дотронуться
пальцами, как он сразу же ее узнал.
- Не уходи, - сказала она ему, - с судьями все можно
уладить. Только скажи. Нет такой ссылки, которую нельзя было бы
заменить недолгим заключением в береговых тюрьмах. Я суну кому
надо несколько золотых эскудо в бороду, и нам не придется
расставаться.
- Я должен уйти не потому, что я изгнан, - ответил Коэн,-
для меня эти их бумаги значат не больше, чем птичий помет. Я
должен идти, потому что сейчас крайний срок. С детства я вижу
во сне, как во мраке бьюсь с кем-то на саблях и хромаю. Я вижу
сны на языке, которого я не понимаю наяву. С первого такого сна
прошло двадцать два года, и наступило время, когда сон должен
сбыться. Тогда все станет ясно. Или сейчас, или никогда. А
прояснится все только там, где я вижу себя во снах - в
Царьграде. Потому что не напрасно мне снятся эти кривые улицы,
проложенные так, чтобы убивать ветер, эти башни и вода под
ними...
- Если мы больше не встретимся в этой жизни, - сказала на
это госпожа Ефросиния, - мы встретимся в какой-нибудь другой,
будущей. Может, мы лишь корни душ, которые прорастут
когданибудь. Может, твоя душа носит в себе, как плод, мою душу
и однажды родит ее, но до того обе они должны пройти путь,
который им предопределен...
- Даже если это так, то в том будущем мире мы не узнаем
друг друга. Твоя душа-это не душа Адама, та, которая изгнана в
души всех следующих поколений и осуждена умирать снова и снова
в каждом из нас.
- Если не так, то встретимся как-нибудь по-другому. И я
тебе скажу, как ты меня узнаешь. Я буду тогда мужского пола, но
руки у меня останутся такими же - каждая с двумя большими
пальцами, так что обе могут быть и левой и правой...
С этими словами госпожа Ефросиния поцеловала Коэна в
перстень, и они расстались навек. Смерть госпожи Лукаревич,
которая последовала вскоре и была так ужасна, что даже воспета
в народных песнях, не могла бросить тень на Коэна, потому что
он в то время, когда госпожа Ефросиния умерла, и сам уже впал в
свое оцепенение, в сон без возвращения и пробуждения.
Сначала все думали, что Коэн отправится в Салоники к своей
невесте Лидисии и там на ней женится, как и рекомендовала ему
еврейская община в Дубровнике. Но он этого не сделал. В тот
вечер он набил трубку, а утром выкурил ее в стане требиньского
Саблякпаши, который готовился к походу на Валахию. Так Коэн
вопреки всему направился в сторону Царьграда. Но он туда
никогда не попал. Очевидцы из свиты паши, которых подкупили
дубровницкие евреи, предложив им растительных красок для льна
за то, что они расскажут им о конце Коэна, говорят следующее:
В тот год паша направлялся со своей свитой на север, а
облака над ними все время летели на юг, будто хотели унести их
память. Уже одно это было плохим знаком. Не спуская глаз со
своих собак, они неслись через пахучие боснийские леса, как
сквозь времена года, и влетели на постоялый двор под Шабацем в
ночь лунного затмения. Один из жеребцов паши сломал ноги на
Саве, и он призвал своего смотрителя кладбища лошадей. Коэн,
однако, спал так крепко, что не слыхал, как его зовут, и паша
ударил его кнутом между глаз с оттяжкой, будто тащит воду из
колодца, и гривны на его руке зазвенели. Коэн в тот же миг
вскочил и бегом отправился выполнять свои обязанности. После
этого события следы Коэна на некоторое время исчезают, потому
что из лагеря паши он уходит в Белград, который тогда находился
в руках австрийцев. Известно, что в Белграде он посещал
огромный трехэтажный дом турецких сефардов, наполненный
сквозняками, которые свистели по всем коридорам... Он
остановился на старом постоялом дворе, в одной из его сорока
семи комнат, который принадлежал тамошним немецким евреям по
фамилии Ашкенази, и тут нашел книгу о толковании снов,
написанную на ладино - испанско-еврейском языке, на котором
говорят евреи в странах Средиземноморья...
Когда отряд Сабляк-паши вышел к Дунаю, одной из четырех
райских рек, которая символизирует аллегорический пласт в
Библии, Коэн опять присоединился к нему... И как только
начались первые перестрелки с сербами и австрийцами, паша
приказал отлить на Джердапе пушку, которая смогла бы стрелять
на три тысячи локтей ядрами вдвое тяжелее обычных...
Когда пушка была готова, начался обстрел австрийских
позиций. Сабляк повел в атаку весь свой отряд, и на сербские
позиции обрушились все, включая и Коэна, который вместо сабли
имел при себе только мешок для овса, хотя в нем, как нам уже
известно, не было ничего ценного, только старые, мелко
исписанные листы бумаги в белых чехлах.
- Под небом, густым, как похлебка, - рассказывал очевидец,
- влетели мы на одну из позиций, где застали трех человек, все
остальные в панике бежали. Двое играли в кости, не обращая на
нас никакого внимания. Возле них перед шатром, словно в бреду,
лежал какой-то богато одетый всадник, и на нас напали только
его собаки. В мгновение ока наши изрубили одного из игроков и
копьем пригвоздили к земле спящего всадника. Он, уже
пронзенный, приподнялся на локте и посмотрел на Коэна, и тот от
этого взгляда упал как подстреленный, и из мешка посыпались его
бумаги. Паша спросил, что это с Коэном, не убит ли он, на что
другой игрок ответил по-арабски: - Если его зовут Коэн, то его
сразила не пуля. Его свалил сон... Оказалось, что это правда, и
странные слова спасли игроку жизнь ровно на один день.
Кончается сообщение о Самуэле Коэне, еврее из
дубровницкого гетто, рассказом о его последнем сне, тяжелом и
глубоком забытьи, в котором он потонул безвозвратно, как в
глубоком море. Последний рассказ о Самуэле Коэне услышал
требиньский Сабляк-паша от того игрока, жизнь которого пощадили
на поле боя. То, что он тогда сказал паше, останется навсегда
зашитым в шелковый шатер на Дунае, и до нас дошли только
отрывки разговора, которые доносились из-за зеленой ткани, не
пропускавшей дождя. Игрока звали Юсуф Масуди, и он умел читать
сны. Он мог в чужом сне поймать даже зайца, а не то что
человека, и служил у того самого всадника, которого пробудили
копьем. Всадник этот был важным и богатым человеком, звали его
Аврам Бранкович, и одни его борзые стоили не меньше ладьи
пороха. Масуди рассказывал о нем невероятные вещи. Он уверял
Саблякпашу, что Коэн в своем тяжелом сне видел именно этого
Аврама Бранковича.
- Ты говоришь, что читаешь сны? - спросил его на это
Саблякпаша.- Можешь ты ли тогда прочитать и этот сон Коэна?
- Конечно, могу. Я уже вижу, что ему снится: поскольку
Бранкович умирает, он видит его смерть.
При этих словах паша как будто оживился.
- Это значит, - быстро сказал он, - что Коэн может сейчас
увидеть то, чего не может ни один смертный - видя во сне
умирающего Бранковича, он может пережить смерть и остаться
живым?
- Да, это так, - согласился Масуди,- но он не может
пробудиться и рассказать нам все, что он видел во сне.
- Но зато ты можешь увидеть, как он видит во сне эту
смерть... - Могу и завтра я расскажу вам, как умирает человек и
что он при этом чувствует...
Ни Сабляк-паша, ни мы никогда не узнаем, зачем предлагал
это игрок, то ли чтобы продлить хоть на один день свою жизнь,
то ли чтобы действительно посмотреть сон Коэна и найти там
смерть Бранковича. Паша все же решил, что стоит попробовать. Он
сказал, что каждый следующий день стоит столько же, сколько
неиспользованная подкова, а вчерашний столько, сколько
потерянная подкова, и оставил Масуди жить до утра.
Этой ночью Коэн спал в последний раз, его огромный, как
птица, нос высовывался из его улыбки во сне, а эта улыбка
походила на огрызок с какого-то давно съеденного обеда. Масуди
не отходил от его изголовья до утра, а когда рассвело, уже не
был похож на самого себя, его словно бичевали в тех снах,
которые он читал. А прочитал он в них следующее:
Бранкович будто и не умирал от раны, нанесенной копьем. Он
этой раны и не чувствовал. Он чувствовал сразу множество ран, и
число их росло со страшной быстротой. Ему чудилось, что он
стоит высоко на каком-то каменном столбе и считает. Была весна,
дул ветер, который заплетал ветки ив в косы, и все ивы от
Муреша до Тисы и Дуная стояли с косами. Что-то вроде стрел
вонзалось в его тело, но процесс этот тек в обратном
направлении: от каждой стрелы он сначала чувствовал рану, потом
укол, потом боль прекращалась, слышался в воздухе свист, и
наконец звенела тетива, отпуская стрелу. Так, умирая, он считал
эти стрелы, от одной до семнадцати, а потом он упал со столба и
перестал считать. При падении он столкнулся с чем-то твердым,
неподвижным и огромным. Но это была не земля. Это была
смерть...
А потом в этой же смерти он умер и во второй раз, хотя
казалось, что в ней нет места даже для малейшей боли. Между
ударами стрел он тоже умирал раз, но тогда совсем по-другому -
умирал недозрелой мальчишеской смертью, и единственное, чего он
боялся, - это не успеть справиться с огромной работой (потому
что смерть-это тяжелый труд), чтобы, когда придет миг падения
со столба, закончить и с другой смертью. Поэтому он напрягался
и спешил. В этой неподвижной спешке он лежал за пестрой
комнатной печью, сложенной в форме маленькой, как будто
игрушечной церковки с красными и золотыми куполами. Горячие и
ледяные приступы боли катились от его тела в комнату, как будто
из него освобождаются и быстро сменяют друг друга времена года.
Сумрак ширился, как влага, каждая комната в доме чернела
по-своему, и только окна были еще нагружены последним светом
дня, чуть более бледным, чем сумерки в комнате. Кто-то прошел
тогда из невидимых сеней, неся свечу; казалось, что на косяке
было столько черных дверей, сколько страниц в книге, вошедший
перелистал их быстро, так что свеча затрепетала, и шагнул в
комнату. Что-то потекло из него, и он выпустил из себя все свое
прошлое и остался пуст. А потом будто бы поднялись воды, и на
дворе поднялась ночь с земли на небо, и у него вдруг выпали
сразу все волосы, будто кто-то сбил шапку с его головы, которая
была уже мертвой.
И тогда во сне Коэна возникла и третья смерть Бранковича.
Она была едва заметна, заслонена чем-то, что могло быть
накопленным временем. Будто сотни лет стояли между двумя
первыми смертями Бранковича и третьей, которая едва была видна
с того места, где находился Масуди... Та, третья, смерть была
быстрой и короткой. Бранкович лежал в какой-то странной
постели, и какой-то мужчина, схватив подушку, начал душить его.
Все это время Бранкович думал только об одном - нужно схватить
яйцо, лежащее на столике рядом с кроватью, и разбить его.
Бранкович не знал, зачем это нужно, но пока его душили
подушкой, он понимал, что это единственное, что важно.
Одновременно он понял, что человек открывает свое вчера и
завтра с большим опозданием, через миллион лет после своего
возникновения - сначала завтра, а потом вчера. Он открыл их
одной давней ночью, когда в сумраке угасал настоящий день,
притиснутый и почти что прерванный между прошлым и будущим,
которые в ту ночь настолько разрослись, что почти соединились.
Было так и сейчас. Настоящий день угасал, задушенный между
двумя вечностями - прошлой и будущей, и Бранкович умер в третий
раз, в тот миг, когда прошлое и будущее столкнулись в нем и
раздавили его тогда, когда ему наконец удалось раздавить
яйцо...
И тут вдруг сон Коэна оказался пустым, как пересохшее
русло реки. Настало время пробуждения, но не было больше
никого, чтобы видеть во сне явь Коэна, как это при жизни делал
Бранкович. Вот так и с Коэном должно было случиться то, что
случилось. Масуди видел, как во сне Коэна, который превращался
в агонию, со всех вещей, окружавших его, как шапки, попадали
имена и мир остался девственно чист, как в первый день
сотворения. Только первые десять чисел и те буквы алфавита, что
означают глаголы, сверкали надо всем, что окружало Коэна, как
золотые слезы. И тогда он понял, что числа десяти заповедей -
это тоже глаголы и что, забывая язык, их забывают последними и
они остаются как отзвук, и даже тогда, когда сами заповеди уже
исчезли из памяти.
В этот миг Коэн проснулся в своей смерти, и перед Масуди
исчезли все пути, потому что над горизонтом опустилась пелена,
на которой водой из реки Яббок было написано: "Ибо ваши сны -
это дни в ночах".
ЛУКАРЕВИЧ (Luccari) ЕФРОСИНИЯ (XVII век) - дубровницкая
аристократка из рода Геталдич-Крухорадичей, замужем за одним из
аристократов рода Luccari... Была известна своим свободным
поведением и красотой; в свое оправдание она шутя говорила, что
страсть и честь по одной дорожке не ходят, и имела по два
больших пальца на каждой руке. Она всегда была в перчатках,
даже во время обеда, любила красные, голубые и желтые кушанья и
носила платья этих же цветов... Говорили, что она состоит в
тайной связи с одним евреем из дубровницкого гетто, по имени
Самуэль Коэн ***... Еще рассказывали, что девушкой она умела
колдовать, выйдя замуж, стала ведьмой, а после смерти должна
была три года пробыть вурдалаком, но в это последнее не все
верили, потому что считалось, что чаще всего такое происходит с
турками, реже с греками, а с евреями никогда. Что же касается
госпожи Ефросиний, о ней шушукались, что втайне она Моисеевой
веры.
Как бы то ни было, когда Самуэля Козна изгнали из
Дубровника, госпожа Ефросиния не осталась к этому равнодушной;
говорили, что она умрет от тоски, потому что с того дня она по
ночам, как камень на сердце, держала собственный кулак, сжатый
с двух сторон большими пальцами. Но вместо того, чтобы умереть,
она однажды утром исчезла из Дубровника, потом ее видели в
Конавле, на Данчах, как она в полдень сидит на могиле и
расчесывает волосы, позже рассказывали, что она отправилась на
север, в Белград, на Дунай, - в поисках своего любовника.
Услышав, что Коэн умер под Кладовом, она никогда больше не
вернулась домой. Остриглась и закопала волосы, и неизвестно,
что с ней потом стало...
Д-р ДОРОТА ШУЛЬЦ (Краков, 1944- ) - славист, профессор
университета в Иерусалиме; девичья фамилия - Квашневская. Ни в
бумагах Краковского Ягеллонского университета в Польше, который
окончила Квашневская, ни в документации Йельского университета
в США в связи с присвоением ученой степени доктора Дороте
Квашневской, нет сведений о ее происхождении. Дочь еврейки и
поляка, Квашневская родилась в Кракове при странных
обстоятельствах. Мать оставила ей талисман, принадлежавший
раньше отцу Дороты Квашневской. Текст был таким: "Сердце мое -
моя дочь; в то время как я равняюсь по звездам, оно равняется
по луне и по боли, которая ждет на краю всех скоростей..."
Квашневская никогда не смогла узнать, чьи это были слова. Брат
ее матери, Ашкенази Шолем, исчез в 1943 году во время немецкой
оккупации Польши и преследований евреев, однако перед
исчезновением ему удалось спасти сестру. Он, не раздумывая
долго, раздобыл для сестры фальшивые документы на имя какой-то
польки и женился на ней. Венчание состоялось в Варшаве, в
церкви святого Фомы, и считалось, что это брак между крещеным
евреем и полькой. Он курил вместо табака чай из мяты, и когда
его забрали, сестра, она же и жена, Анна Шолем, которую
продолжали считать полькой и которая носила девичью фамилию
какой-то неизвестной ей Анны Закевич, развелась со своим мужем
(и братом, о чем, правда, знала только она сама) и так спасла
свою жизнь. Сразу же после этого она опять вышла замуж за
некоего вдовца, по фамилии Квашневский, с глазами в мелких
пятнышках, как яйца; он был безрогим на язык и рогат в мыслях.
От него у Анны был один-единственный ребенок - Дорота
Квашневская. Закончив отделение славистики, Дорота переехала в
США, позже защитила там докторскую диссертацию по проблемам
древних славянских литератур, но когда Исаак Шульц, которого
она знала еще со студенческих лет, уехал в Израиль, она
присоединилась к нему. В 1967 году во время
израильско-египетской войны он был ранен, и Дорота в 1968 году
вышла за него замуж, осталась жить в Тель-Авиве и Иерусалиме,
читала курс истории раннего христианства у славян, однако
постоянно посылала на свое собственное имя письма в Польшу. На
конвертах она писала свой старый адрес в Кракове, и эти письма,
которые Квашневская, в замужестве Шульц, писала самой себе,
сохранила в Польше нераспечатанными ее бывшая краковская
хозяйка квартиры, надеясь, что когда-нибудь сможет вручить их
Квашневской. Письма эти короткие, кроме одного или двух, и
представляют собой нечто вроде дневника д-ра Дороты Шульц в
период с 1968 по 1982 год. Связь их с хазарами состоит в том,
что последнее письмо, написанное из следственной тюрьмы в
Царьграде, затрагивает вопрос о хазарской полемике ***. Письма
приводятся в хронологическом порядке.
1. Тель-Авив, 21 августа 1967.
Дорогая Доротка,
у меня здесь такое чувство, что я ем скоромное за чужой, а
пощусь за свой счет. Я знаю, что, пока я пишу тебе эти строки,
ты уже стала немного моложе меня, там, в своем Кракове, в нашей
комнате, где всегда пятница, где в нас пихали корицу, как будто
мы яблоки. Если ты когда-нибудь получишь это письмо, ты станешь
старше меня в тот момент, когда его прочтешь.
Исааку лучше, он лежит в прифронтовом госпитале, но быстро
поправляется, и это заметно по его почерку. Он пишет, что видит
во сне "краковскую тишину трехдневную, дважды разогревавшуюся,
немного подгоревшую на дне". Скоро мы встретимся, и я боюсь
этой встречи не только из-за его раны, о которой еще ничего не
знаю, но и потому, что все мы деревья, вкопанные в собственную
тень.
Я счастлива, что ты, которая не любит Исаака, осталась
там, далеко от нас. Теперь нам с тобой легче любить друг друга.
2. Иерусалим, сентябрь 1968.
Доротка,
всего несколько строк: запомни раз и навсегда - ты
работаешь, потому что не умеешь жить. Если бы ты умела жить, ты
бы не работала и никакая наука для тебя бы не существовала. Но
все учили нас только тому, как работать, и никто - как жить. И
вот я не умею.
Исаак вернулся. Когда он одет, его шрамы не видны, он так
же красив, как и раньше, и похож на пса, который научился петь
краковяк. Он любит мою правую грудь больше, чем левую, и мы
спим совершенно непристойно... Давай договоримся так: поделим
роли, ты там, в Кракове, продолжай заниматься наукой, а я буду
здесь учиться жить.
3. Хайфа, март 1971.
Дорогая и не забытая мною Доротея,
давно я тебя не видела, и кто знает, смогла ли бы узнать.
Может, и ты меня больше не узнала бы, может, ты обо мне больше
и не думаешь в нашей квартире, где дверные ручки цепляются за
рукава. Я вспоминаю польские леса и представляю себе, как ты
бежишь через вчерашний дождь, капли которого лучше слышны,
когда падают не с нижних, а с верхних веток. Я вспоминаю тебя
девочкой и вижу, как ты растешь быстро, быстрее, чем твои ногти
и волосы, а вместе с тобой, но только еще быстрее, растет в
тебе ненависть к нашей матери. Неужели мы должны были ее так
ненавидеть? Здешний песок вызывает во мне страстное желание, но
я уже долгое время чувствую себя с Исааком странно. Это не
связано ни с ним, ни с нашей любовью. Это связано с чем-то
третьим. С его раной. Он читает в постели, я лежу рядом с ним в
палатке и гашу свет, когда чувствую, что хочу его. Несколько
мгновений он остается неподвижным, продолжает в темноте
смотреть в книгу, и я ощущаю, как его мысли галопом несутся по
невидимым строчкам. А потом он поворачивается ко мне. Но стоит
нам прикоснуться друг к Другу, как я чувствую страшный шрам от
его раны. Мы занимаемся любовью, а потом лежим, глядя каждый в
свой мрак, и несколько вечеров назад я спросила его: - Это было
ночью?
- Что? - спросил он, хотя знал, о чем я говорю.
- Когда тебя ранили.
- Это было ночью.
- И ты знаешь чем?
- Не знаю, но думаю, что это был штык.
4. Иерусалим, октябрь 1974.
Дорогая Доротка,
я читаю о славянах, как они спускались к морям с копьем в
сапоге. И думаю о том, как меняется Краков, осыпанный новыми
ошибками в правописании и языке, сестрами развития слова. Я
думаю о том, как ты остаешься той же, а я и Исаак все больше
меняемся. Я не решаюсь ему сказать. Когда бы мы ни занимались
любовью, как бы нам ни было хорошо и что бы мы при этом ни
делали, я грудью и животом все время чувствую след от того
штыка. Я чувствую его уже заранее, этот след вытягивается между
мною и Исааком в нашей постели. Неужели возможно, чтобы человек
за один миг смог расписаться штыком на теле другого человека и
навсегда вытатуировать свой след в чужом мясе? Эта рана похожа
на какой-то рот, и стоит нам, Исааку и мне, дотронуться друг до
друга, как к моей груди прикасается этот шрам, похожий на
беззубый рот. Я лежу возле Исаака и смотрю на то место в
темноте, где он спит. Запах клевера заглушает запах конюшни. Я
жду, когда он повернется - сон становится тонким, когда человек
поворачивается, - тогда я смогу его разбудить, и ему не будет
жалко. Есть сны бесценные, а есть и другие, как мусор. Я бужу
его и спрашиваю: - Он был левша?
- Кажется, да, - отвечает он мне сонно, но твердо, из чего
мне ясно, что он знает, о чем я думаю. - Его взяли в плен и
утром привели в мою палатку. Он был бородатым, с зелеными
глазами и ранен в голову. Его привели, чтобы показать мне эту
рану. Ее нанес я. Прикладом.
5. Снова Хайфа, сентябрь 1975.
Доротка,
ты и не сознаешь, какая ты счастливица, что там, у себя на
Вавеле, не знаешь этого ужаса, в котором я живу. Представь
себе, что в постели, когда ты обнимаешь своего мужа, тебя
кусает и целует ктото другой. Между Исааком и мной лежит и
всегда будет лежать какойто бородатый сарацин с зелеными
глазами! Он откликается на каждое мое движение раньше Исаака,
потому что он ближе к моему телу, чем тело Исаака. И этот
сарацин не выдумка! Этот скот-левша, и он больше любит мою
левую грудь, чем правую! Какой ужас, Доротка! Ты не любишь
Исаака, как я, скажи мне, как объяснить ему все это? Я оставила
тебя и Польшу и приехала сюда ради Исаака, а в его объятиях
встретила зеленоглазое чудовище, оно просыпается ночью, кусает
меня беззубым ртом и хочет меня всегда. Исаак иногда заставляет
меня кончать на этом арабе. Он всегда тут! Он всегда может...
Наши стенные часы, Доротка, этой осенью спешат, а весной
они будут отставать...
6. Октябрь 1978.
Доротея,
араб насилует меня в объятиях моего мужа, и я больше уже
не знаю, с кем я наслаждаюсь в своей постели. Из-за этого
сарацина муж кажется мне иным, чем раньше, я теперь вижу и
понимаю его поновому, и это невыносимо. Прошлое внезапно
переменилось: чем больше наступает будущее, тем сильнее
изменяется прошлое, оно становится опаснее, оно непредсказуемо,
как завтрашний день, в нем на каждом шагу закрытые двери, из
которых все чаще выходят живые звери. И у каждого из них свое
имя. У того зверя, который разорвет Исаака и меня, имя
кровожадное и длинное. Представляешь, Доротка, я спросила
Исаака, и он мне ответил. Он это имя знал все время. Араба
зовут Абу Кабир Муавия**. И свое дело он уже начал как-то
ночью, в песке, недалеко от водопоя. Как и все звери.
7. Тель-Авив, 1 ноября 1978.
Дорогая, забытая Доротка,
ты возвращаешься в мою жизнь, но при ужасных
обстоятельствах. Там, в твоей Польше, среди туманов таких
тяжелых, что они тонут в воде, ты и не представляешь себе, что
я тебе готовлю. Пишу тебе из самых эгоистических соображений. Я
часто думаю, что лежу с широко открытыми глазами в темноте, а
на самом деле в комнате горит свет и Исаак читает, а я лежу,
закрыв глаза. Между нами в постели по-прежнему этот третий, но
я решилась на маленькую хитрость. Это трудно, потому что поле
боя ограничено телом Исаака. Уже несколько месяцев я бегу от
губ араба, передвигаюсь по телу моего мужа справа налево. И вот
когда я уже решила, что выбралась из западни, на другом краю
Исаакова тела налетела на засаду. На еще одни губы араба. За
ухом Исаака, под волосами я наткнулась на второй шрам, и мне
показалось, что Абу Кабир Муавия запихал мне в рот свой язык.
Ужас! Теперь я действительно в западне-если я сбегаю от одних
его губ, меня ждут вторые, на другом краю тела Исаака. Что мне
думать об Исааке? Я не могу больше ласкать его - от страха, что
мои губы встретятся с губами сарацина. Вся наша жизнь теперь
проходит под его знаком. Смогла бы ты в таких условиях иметь
детей? Но самое страшное случилось позавчера. Один из этих
сарацинских поцелуев напомнил мне поцелуй нашей матери. Сколько
лет я не вспоминала ее, и теперь вдруг она напомнила о себе. И
как! Пусть не похваляется тот, кто обувается так же, как тот,
кто уже разулся, но как это пережить?
Я прямо спросила Исаака, жив ли еще египтянин. И что, ты
думаешь, он ответил? Жив и даже работает в Каире. Его шаги, как
плевки, тянутся за ним по свету. Заклинаю тебя: сделай
что-нибудь! Может быть, ты спасла бы меня от этого незваного
любовника, если бы отвлекла его похоть на себя, ты бы спасла и
меня, и Исаака. Запомни это проклятое имя-Абу Кабир Муавия,- и
давай возьмем каждая свое: ты бери этого леворукого араба в
свою постель в Кракове, а я попытаюсь сохранить для себя
Исаака.
8
Department of Slavic studies
University of Yale USA
October 1980.
Дорогая мисс Квашневская,
пишет тебе твоя д-р Шульц. Я пишу в перерыве между двумя
лекциями. У нас с Исааком все в порядке. Уши мои еще полны его
засушенных поцелуев. Мы почти помирились, и теперь наши постели
на разных континентах. Я много работаю. После почти
десятилетнего перерыва я снова участвую в научных конференциях.
И скоро мне опять предстоит поездка, на этот раз ближе к тебе.
Через два года в Царьграде состоится научная конференция по
вопросам Черноморского побережья. Я готовлю доклад. Ты помнишь
профессора Wyke и твою дипломную работу "Жития Кирилла и
Мефодия, славянских просветителей"? Помнишь исследование
Дворника, которым мы тогда пользовались? Сейчас он выпустил
второе, дополненное издание (1969), и я его буквально
проглотила, настолько оно интересно. В моей работе речь пойдет
о хазарской миссии Кирилла * и Мефодия *, той самой, важнейшие
сведения о которой - записи самого Кирилла - утеряны.
Неизвестный составитель жития Кирилла пишет, что свою
аргументацию в хазарской полемике *** Кирилл оставил при дворе
кагана в особых книгах, так называемых "Хазарских проповедях".
"Кто хочет найти полностью эти проповеди, -отмечает биограф
Кирилла,-найдет их в книгах Кирилла, которые перевел учитель
наш и архиепископ Мефодий, брат Константина Философа, поделив
их на восемь проповедей". Просто невероятно, что целые книги,
восемь проповедей христианского святого и создателя славянской
письменности, написанные на греческом и переведенные на
славянский язык, исчезли без следа! Не потому ли, что в них
было слишком много еретического? Не было ли в них
иконоборческой окраски, что было полезно в полемике, но не
соответствовало догматам, из-за чего потом их и изъяли из
употребления? Я еще раз перелистала Ильинского, всем нам хорошо
известный "Обзор систематизированной библиографии Кирилла и
Мефодия" до 1934 года, а потом его продолжателей (Попруженко,
Романского, Петковича и т. д.). Снова прочла Мошина. И потом
перечитала всю приведенную там литературу о хазарском вопросе.
Но нигде нет упоминания о том, что "Хазарские проповеди" особо
привлекли чье-то внимание. Как могло получиться, что все
бесследно исчезло? Этот вопрос все оставляют без внимания. А
ведь существовал не только греческий канонический текст, но и
славянский перевод, из чего можно сделать вывод, что это
произведение некоторое время имело очень широкое хождение.
Причем не только в хазарской миссии, но и позже; его
аргументация должна была бы использоваться и в славянской
миссии братьев из Салоник, и даже в полемике со сторонниками
"трехъязычия". Иначе зачем бы им было переводить это на
славянский язык? Я думаю, что наверное можно напасть на след
"Хазарских проповедей" Кирилла, если искать методом
сопоставления. Если систематически пересмотреть исламские и
еврейские источники о хазарской полемике, наверняка там
что-нибудь да всплывет о "Хазарских проповедях". Но дело в том,
что я не могу сделать это сама, это вообще не по силам одним
славистам, нужно участие и востоковедов, и специалистов по
древней еврейской культуре, Я посмотрела у Dunlop'a (History of
Jewish Khazars, 1954), но и там нет ничего, что могло бы
навести на след утраченных "Хазарских проповедей" Константина
Философа.
Видишь, не только ты в своем Ягеллонском университете
занимаешься наукой, я здесь тоже. Я вернулась к своей
специальности, к своей молодости, которая по вкусу похожа на
фрукты, доставленные пароходом с другого берега океана. Я хожу
в соломенной шляпе вроде корзинки. В ней можно, не снимая ее с
головы, принести с рынка черешню. Я 'старею всякий раз, как в
Кракове бьет полночь на городских часах, и просыпаюсь, когда
над Вавелем раздается звон часов. Я завидую твоей вечной
молодости. Как поживает твой Абу Ка-бир Муавия? Действительно
ли у него, как в моих снах, два копченых сухих уха и хорошо
выжатый нос? Спасибо, что ты его взяла на себя. Вероятно, ты
уже все знаешь о нем. Представь, он занят делом, весьма близким
к тому, чем занимаемся мы с тобой! Мы с ним работаем почти что
в одной области. Он преподает в Каирском университете
сравнительную историю религий Ближнего Востока и занимается
древнееврейской историей. Ты с ним мучаешься так же, как и я?
Любящая тебя д-р Шульц.
9. Иерусалим, январь 1981.
Доротка,
произошло невероятное. Вернувшись из Америки, я нашла в
нераспечатанной почте список участников той самой конференции о
культурах Черноморского побережья. Ты себе не представляешь,
кого я увидела в этом списке! А может, ты это узнала раньше
меня благодаря своей провидческой душе, которой не требуется
парикмахерская завивка? Араб, собственной персоной, тот самый,
с зелеными глазами, который изгнал меня из постели моего мужа.
Он будет на конференции в Царьграде. Однако не хочу вводить
тебя в заблуждение. Он приедет не для того, чтобы повидаться со
мной. Но я еду в Царьград, чтобы наконец-то его увидеть. Я уже
давно рассчитала, что наши профессии близки настолько, что
достаточно просто участвовать в научных конференциях, чтобы в
конце концов пересеклись и наши пути. В моей сумке лежит доклад
о хазарской миссии Кирилла и Мефодия, а под ним - S&W модель
36, калибр 38. Спасибо тебе за напрасные попытки взять на себя
д-ра Абу Кабира Муавию. Теперь я беру его на свою душу. Люби
меня так же, как ты не любишь Исаака. Сейчас мне это нужнее,
чем когда бы то ни было. Наш общий отец нам поможет...
10. Царьград, отель "Кингстон", 1 октября 1982.
Дорогая Доротея,
наш общий отец мне поможет, так я написала тебе в
последний раз. Что ты знаешь о нашем общем отце, бедная моя
глупышка? В твоем возрасте и я ничего не знала, так же как ты
сейчас. Но моя новая жизнь дала мне время, чтобы думать. Знаешь
ли ты, кто твой настоящий отец, детка? Ты думаешь, тот самый
поляк с бородой, похожей на пук травы, который дал тебе фамилию
Квашневская и отважился жениться на твоей матери, Анне Шолем?
Думаю, что нет. Попытайся вспомнить того, кого мы не могли
никак запомнить? Помнишь некоего Шолема Ашкенази, юношу на
фотографиях, с криво сидящими на носу очками и с другой их
парой, торчащей из жилетки. Того, который курит вместо табака
чай и у которого красивые волосы налезают на сфотографированные
уши. Того, который, как нам рассказывали, говорил, что "нас
спасет наша мнимая жертва". Помнишь брата и первого мужа нашей
матери, Анны Шолем, псевдоЗакевич в девичестве, Шолем по
первому и Квашневскую по второму мужу? И знаешь ли ты, кто был
первым отцом ее дочерей, твоим и моим? Ну, вспомнила наконец
через столько лет? Твой дядя и брат матери прекрасно мог быть и
нашим отцом, не правда ли? А почему, собственно, им не мог бы
быть муж твоей матери? Что ты думаешь о таком раскладе, дорогая
моя? Может быть, госпожа Шолем не имела мужчин до брака и не
могла повторно выйти замуж девушкой? Возможно, поэтому она
напоминает о себе таким неожиданным образом, неся с собой ужас.
Как бы то ни было, ее старания не пропали даром, и я думаю, что
моя мать, если и сделала так, была права тысячу раз, и если я
могу выбирать, то я выбираю отцом охотнее, чем кого бы то ни
было, брата моей матери. Несчастье, дорогая моя Доротея,
несчастье учит нас читать нашу жизнь в обратном направлении...
Здесь, в Царьграде, я уже кое с кем познакомилась. Мне не
хочется показаться кому-то странной, и я болтаю со всеми, не
закрывая рта. Один из моих коллег, приехавший на эту
конференцию,доктор Исайло Сук **. Он археолог, медиевист,
прекрасно знает арабский, мы говорим с ним по-немецки, шутим
по-польски, потому что он знает сербский и считает себя молью
собственного платья. Его семья уже сто лет переселяет из дома в
дом одну и ту же изразцовую печь, а он считает, что XXI век
будет отличаться- от нашего тем, что люди наконец-то единодушно
восстанут против скуки, которая сейчас затопляет их, как
грязная вода. Камень скуки, говорит д-р Сук, мы несем на плечах
на огромный холм, подобно Сизифу. Наверное, люди будущего
соберутся с духом и восстанут против этой чумы, против скучных
школ, скучных книг, против скучной музыки, скучной науки,
скучных встреч, и тогда они исключат тоску из своей жизни, из
своего труда, как этого и требовал наш праотец Адам. Говорит он
это не совсем серьезно, а когда пьет вино, не позволяет
доливать в свой бокал, потому что, считает он, бокал не кадило,
чтобы добавлять в него прежде, чем он иссяк. По его учебникам
учатся во всем мире, но он сам преподавать по ним не может. Он
должен преподавать в университете что-то другое. Его
исключительные знания в своей области никак не соответствуют
его крайне незначительному научному авторитету. Когда я ему
сказала об этом, он улыбнулся и объяснил мне это так:
- Дело в том, что вы можете стать великим ученым или
великим скрипачом (а знаете ли вы, что все великие скрипачи,
кроме Паганини, были евреями?), только если вас поддержит и
встанет за спиной у вас и ваших достижений один из мощных
интернационалов современного мира. Еврейский, исламский или
католический интернационал. Вы принадлежите к одному из них. Я
ни к какому, поэтому я и неизвестен. Между моими пальцами давно
уже проскочили все рыбы.
- О чем это вы говорите? - спросила я его изумленно. - Это
парафраз одного хазарского текста, примерно тысячелетней
давности. А вы, судя по названию доклада, который вы нам
прочтете, весьма осведомлены о хазарах. Почему же вы тогда
удивляетесь? Или вы никогда не встречали издание Даубмануса?
Должна признаться, что он меня смутил. Особенно когда
упомянул "Хазарский словарь" Даубмануса. Если такой словарь
когда-либо и существовал, ни один экземпляр его, насколько мне
известно, не сохранился.
Дорогая Доротка, я вижу снег в Польше, вижу, как снежинки
превращаются в твоих глазах в слезы. Вижу хлеб, насаженный на
шест со связкой лука, и птиц, которые греются в дыме над
домами. Д-р Сук говорит, что время приходит с юга и переходит
Дунай на месте Траянова моста. Здесь нет снега, и облака похожи
на остановившиеся волны, которые выбрасывают рыбу. Д-р Сук
обратил мое внимание еще на одно обстоятельство. В нашем отеле
остановилась чудесная бельгийская семья, их фамилия Ван дер
Спак. Семья, какой у нас никогда не было и какой не будет у
меня. Отец, мать и сын. Д-р Сук называет их "святое семейство".
Каждое утро во время завтрака я наблюдаю, как они едят; все они
упитаны, а господин Спак, как я случайно слышала, однажды в
шутку сказал: на толстую кошку блоха не пойдет... Он прекрасно
играет на каком-то инструменте, сделанном из панциря белой
черепахи, а бельгийка занимается живописью. Рисует она левой
рукой, и при этом очень хорошо, на всем, что ей попадается: на
полотенцах, стаканах, ножах, на перчатках своего сына. Их
мальчику года четыре. У него коротко подстриженные волосы,
зовут его Мануил, и он только недавно научился составлять свои
первые фразы. Съев булочку, он подходит к моему столу и
застывает, глядя на меня так, как будто влюблен. Глаза его в
пятнышках, напоминающих мелкие камешки на тропинке, и он
постоянно спрашивает меня: "Ты меня узнала?" Я глажу его по
голове, словно глажу птицу, а он целует мне пальцы. Он приносит
мне трубку своего отца, похожего на цадика, и предлагает
покурить. Ему нравится все красного, голубого и желтого цветов.
И он любит есть все, что этого цвета. Я ужаснулась, когда
заметила один его физический недостатокна каждой руке у него по
два больших пальца. Никогда не могу разобрать, какая рука у
него правая, а какая левая. Но он еще не понимает, как
выглядит, и не прячет от меня свои руки, хотя родители все
время надевают ему перчатки. Иногда, не знаю, поверишь ли ты,
мне это совсем не мешает и перестает казаться чем-то
неестественным.
Да может ли мне вообще что-то мешать, если сегодня утром
за завтраком я услышала, что на конференцию прибыл и д-р Абу
Кабир Муавия. "...Мед источают уста чужой жены, и мягче елея
речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как
меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают
преисподней". Так написано в Библии.
11. Царьград, 8 октября 1982.
Мисс Доротее Квашневской - Краков.
Я потрясена твоим эгоизмом и безжалостностью приговора. Ты
уничтожила и мою жизнь, и жизнь Исаака. Я всегда боялась твоей
науки и предчувствовала, что она несет мне зло. Надеюсь, ты
знаешь, что случилось и что ты наделала. В то утро я вышла
завтракать, твердо решив стрелять в Муавию, как только он
появится во внутреннем садике отеля, где мы завтракаем. Я
сидела и ждала; наблюдала, как тени птиц, пролетающих над
гостиницей, стремительно скользят по стене. И тогда случилось
то, чего никоим образом нельзя было предусмотреть. Появился
человек, и я сразу поняла, кто это. Лицо его было темным, как
хлеб, волосы с сединой, будто у него в усах застряли рыбьи
кости. Только на виске из шрама растет пучок диких, совершенно
черных волос, они у него не седеют. Д-р Муавия подошел прямо к
моему столу и попросил разрешения сесть. Он заметно хромал, и
один его глаз был прищурен, как маленький закрытый рот. Я
замерла, потом в сумке сняла с предохранителя револьвер и
оглянулась. В саду кроме нас был только один четырехлетний
Мануил; он играл под соседним столом.
- Разумеется, - сказала я, и человек положил на стол
нечто, что навсегда изменило мою жизнь. Это была стопка бумаг.
- Я знаю тему вашего доклада, - так сказал он садясь, - и
именно поэтому хотел проконсультироваться по одному вопросу,
связанному с ней.
Мы говорили по-английски, у него немного стучали зубы, ему
было холоднее, чем мне, губы его тряслись, но он ничего не
делал, чтобы унять дрожь. Он грел пальцы о свою трубку и вдувал
дым в рукава. Вопрос его касался "Хазарских проповедей" Кирилла
и Мефодия.
- Я просмотрел, - сказал он, - всю литературу, которая
относится к "Хазарским проповедям", и нигде не нашел никакого
упоминания о том, что эти тексты дошли до наших дней. Отрывки
из "Хазарских проповедей" Кирилла сохранились и даже были
напечатаны несколько сотен лет назад, и мне представляется
невероятным, что никто об этом не знает.
Я была потрясена. То, что утверждает этот человек, могло
было бы стать крупнейшим открытием в моей области - славистике
- за все время ее существования. Если это действительно так.
- Почему вы так думаете? - спросила я его, пораженная, и
не очень уверенно изложила ему свое мнение по этому вопросу. -
"Хазарские проповеди" Кирилла, - сказала я, - науке неизвестны,
о них лишь упоминается в житии Кирилла, откуда мы и знаем, что
они существовали. О какой-то сохранившейся рукописи или же об
опубликованном тексте этих проповедей смешно говорить.
- Это-то я и хотел проверить, - проговорил д-р Муавия, - с
настоящего момента будет известно, что верно совершенно
обратное...
И он протянул мне те самые бумаги - ксерокопии, - которые
лежали перед ним. Передавая мне эту пачку, он на мгновение
прикоснулся своим большим пальцем к моему, и от этого
прикосновения у меня по телу пробежали мурашки. У меня было
такое чувство, что наше прошлое и настоящее сконцентрировалось
в наших пальцах и соприкоснулось. Когда я спросила д-ра Муавию,
как они к нему попали, он ответил нечто такое, что привело меня
в еще большее изумление:
- Важно вовсе не то, как они ко мне попали. В XII веке они
оказались в руках вашего соплеменника, поэта Иуды Халеви, он
внес их в свой трактат о хазарах. Описывая известную полемику,
он привел слова ее христианского участника, называя его
"философом", то есть так же, как это лицо называет и автор
жития Кирилла в связи с той же полемикой. Таким образом, имя
Кирилла в этом еврейском источнике не названо, как и имя
арабского участника, приводится только звание христианского
участника - Кирилла, а это и есть причина того, что до сих пор
никто не искал текст Кирилла в хазарской хронике Иуды Халеви.
Я смотрела на д-ра Муавию, и мне казалось, что он не имеет
никакого отношения к тому раненому человеку с зелеными глазами,
который несколько мгновений назад сел за мой стол. Все было
настолько убедительно и ясно, так соответствовало уже известным
науке фактам, что просто удивительно, почему раньше никому не
пришло в голову искать этот текст таким способом.
- Здесь имеется одна неувязка, - сказала я наконец д-ру
Муавии, - текст Халеви относится к VIII веку, а хазарская
миссия Кирилла была в девятом столетии: в 861 году.
- Тот, кто знает истинный путь, может идти и в обход! -
заметил на это Муавия.- Нас интересуют не даты, а то, были ли у
Халеви, который жил позже Кирилла, под рукой его "Хазарские
проповеди", когда он писал свою книгу о хазарах. И использовал
ли он их в этой книге, там, где он приводит слова христианского
участника хазарской полемики. Скажу сразу, в словах
христианского мудреца у Халеви есть несомненные совпадения с
теми аргументами Кирилла, которые дошли до нас. Мне известно,
что вы переводили на английский житие Кирилла, и, конечно, вы
сможете без труда узнать отдельные фрагменты, Послушайте меня и
скажите, чей, например, это текст, в котором говорится о том,
что человек занимает место посередине между ангелами и
животными...
Разумеется, я тут же вспомнила это место и привела его
наизусть: - "Бог, создавший свет, создал человека между ангелом
и животным, речью и разумом отделив его от животных, а гневом и
похотью от ангелов, и через эти свойства он и приближается или
к высшим или к низшим". Это, - заметила я, цитируя текст, -
часть жития об агарянской миссии Кирилла.
- Совершенно верно, но точно то же мы встречаем и в пятой
части книги Халеви, где он полемизирует с Философом. Есть и
другие совпадения. Самое же важное то, что в самой речи,
которую в хазарской полемике Халеви приписывает христианскому
ученому, рассматриваются вопросы, которые Кирилл, как видно из
жития, обсуждал во время полемики. В обоих текстах говорится о
Святой Троице и законах, существовавших до Моисея, о запретах
на некоторые виды мяса и, наконец, о врачах, которые лечат
противно тому, как нужно. Приводится тот же аргумент, что душа
сильнее всего тогда, когда тело самое слабое (около
пятидесятого года жизни) и т. д. Наконец, хазарский каган
упрекает арабского и еврейского участников полемики - все это
согласно Халеви,- что их книги откровений (Коран и Тора)
написаны на языках, ничего не значащих для хазар, индусов и
других народов, которые их не понимают. Это один из
существенных аргументов, который приводится и в житии Кирилла,
когда речь идет о борьбе против сторонников трехъязычия (то
есть тех, кто считал языками богослужения только греческий,
древнееврейский и латинский), так что ясно, что в этом вопросе
каган был под влиянием христианского участника полемики и
выдвигал доводы, о которых мы и от другой стороны знаем, что
они принадлежат действительно Кириллу. Халеви это только
пересказал.
Наконец, нужно обратить внимание еще на две вещи.
Вопервых, мы не знаем всего, что содержалось в потерянных
"Хазарских проповедях" Константина Солунского (Кирилла), и не
знаем, что из этого передано в тексте Халеви. Значит, можно
предположить, что такого материала имеется больше, чем я здесь
привел. Второе: целостность текста Халеви, именно в той его
части, которая относится к христианскому участнику полемики,
серьезно нарушена. Эта часть не сохранилась в арабском
источнике, она имеется только в появившемся позже еврейском
переводе, в то время как напечатанные издания Халеви, особенно
те, которые относятся к XVI веку, подвергались, как известно,
цензуре христианской церкви.
Короче говоря, книга Халеви о хазарах донесла до нас, хотя
мы сегодня не знаем, в каком объеме, часть "Хазарской
проповеди" Кирилла. Впрочем, здесь, в Царьграде, - закончил д-р
Муавия,- в нашей конференции будет участвовать и некий д-р
Исайло Сук, который хорошо говорит по-арабски и занимается
исламскими источниками о хазарской полемике. Он мне сказал, что
у него имеется хазарский словарь XVII века, который издал некий
Даубманус, и что из этого словаря видно, что Халеви использовал
"Хазарские проповеди" Кирилла. Я пришел попросить вас
поговорить с д-ром Суком. Со мной он говорить вряд ли станет.
Его интересуют только арабы, жившие тысячу лет назад или
раньше. Для остальных у него нет времени. Не поможете ли вы мне
познакомиться с д-ром Суком и прояснить эту проблему...
Так закончил свой рассказ д-р Абу Кабир Муавия, и в моем
мозгу мгновенно связались все нити. Когда забываешь, в каком
направлении истекает время, определить это помогает любовь. Из
нее время всегда вытекает. Спустя столько лет опять охватила
меня твоя проклятая страсть к науке, и я предала Исаака. Вместо
того чтобы стрелять, я побежала искать д-ра Сука, оставив свои
бумаги и под ними оружие. У входа не было никого из прислуги,
на кухне кто-то обмакивал кусок хлеба в огонь и ел его. Я
увидела Ван дер Спака, который выходил из комнаты, и поняла,
что это комната д-ра Сука. Я постучала, но никто не отозвался.
Где-то у меня за спиной часто капали шаги, а между ними я
чувствовала жар женского тела. Я постучала опять, и тогда от
моего стука дверь слегка приоткрылась.'0нане была закрыта на
ключ. Сначала я увидела только ночной столик и на нем блюдечко,
в котором лежали яйцо и ключ. Открыв дверь шире, я вскрикнула.
Д-р Сук лежал в постели, задушенный подушкой. Он лежал закусив
усы, будто спеша навстречу ветру. Я с криком бросилась бежать,
и тут из сада послышался выстрел. Выстрел был один, но я
слышала его каждым ухом отдельно. Я сразу же узнала звук своего
револьвера. Влетев в сад, я увидела, что д-р Муавия лежит на
дорожке с размозженной головой... За соседним столом ребенок в
перчатках пил свой шоколад, будто ничего не произошло... Больше
никого в саду не было.
Меня сразу же арестовали. Смит-Вессон, на котором найдены
только мои отпечатки пальцев, приложен в качестве улики, и меня
обвиняют в преднамеренном убийстве д-ра Абу Кабира Муавии. Это
письмо я пишу тебе из следственной тюрьмы и все еще ничего не
могу понять. Источник сладкой воды в устах своих ношу и меч
обоюдоострый... Кто убил д-ра Муавию? Представляешь, обвинение
гласит: еврейка убила араба из мести! Весь исламский
интернационал, вся египетская и турецкая общественность
восстанут против меня. "Поразит перед тобою Господь врагов
твоих, восстающих против тебя; одним путем они выступят против
тебя, а семью путями побегут от тебя". Как доказать, что ты не
сделал того, что действительно собирался сделать? Нужно найти
жестокую ложь, ложь страшную и сильную, как отец дождя, чтобы
доказать истину. Рога вместо глаз нужны тому, кто хочет
выдумать такую ложь. Если найду ее, останусь жить и заберу тебя
из Кракова к себе в Израиль, опять вернусь к наукам нашей
молодости. Спасет нас наша мнимая жертва - так говорил один из
двух наших отцов... Как тяжело выдержать милость Его, а тем
более гнев.