�Владимир Семенович Короткевич. Черный замок Ольшанский�
Черный замок Ольшанский
Роман
---------------------------------------------------------------------
Книга: В.Короткевич.
"Черный замок Ольшанский. Дикая охота короля Стаха"
Авторизованный перевод с белорусского Валентины Щедриной
Издательство "Мастацкая лiтаратура", Минск, 1984
OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru), 29 августа 2002 года
---------------------------------------------------------------------
Свой исторический роман-детектив "Черный замок Ольшанский" известный
белорусский писатель Владимир Короткевич посвятил событиям трехсотлетней
давности, которые тесно переплетаются с событиями Великой Отечественной
войны, с сегодняшним днем. Любовь, верность, победа добра над злом - вечны и
никогда не теряют своей ценности - утверждает автор.
В.К., которой этот роман
обещан десять лет назад, -
с благодарностью.
� * ЧАСТЬ I * �
Грозные тени ночные
С чего мне, черт побери, начать?
С того давнего кануна весны, когда за окном были сумерки и мокрый снег?
А что вам до прошлогоднего снега и сумерек?
Начать с того, кто я такой?
А что вам, в конечном счете, до меня, обычного человека в огромном
городе? И зачем вам моя самохарактеристика?
Сразу брать быка за рога и рассказывать?
А какое я имею право на ваше внимание? Вы уплатили деньги? Так мало ли
за какие дурацкие, паршивые истории люди платят деньги.
Разбегаются мысли. Все то, что произошло, - оно ведь касается меня, а
не вас. И нужно это пока что не вам, а только мне. Разве только мне? Да,
пока я не расскажу всего, - только мне.
Я знаю, с чего начну. Поскольку до поры до времени это только моя
история, я начну с самооправдания. И лишь потом перейду к тому, кто я такой
и что случилось в тот снежный и мокрый мартовский вечер.
И - чтобы вы не сказали: "Ну что нам за дело до всего этого?" - я
обещаю рассказать самую удивительную и невероятную историю из моей жизни.
Мне даже иногда кажется - может быть, потому, что это было со мной, - что
это самая невероятная история, происшедшая на земле белорусской за последнюю
четверть столетия.
Впрочем, судите сами.
Разные дурацкие слухи ходят об этой истории, о моем преступлении, о том
закрытом процессе, на котором я был то ли подсудимым, то ли свидетелем.
Насчет подсудимого - чепуха. Не ходил бы я на свободе, если бы был под
судом. А поскольку дело было связано с убийством, даже с несколькими
убийствами, то как-то слишком уж быстро я, осужденный, воскрес на этой
земле. Однако тень правды была в тени подозрения, которая на какое-то время
пала на меня.
Свидетелем я также не был. Я был действующим лицом. Возможно, слишком
деятельным. Подчас больше, чем требовалось. Совершал глупости - и умные
поступки. Заблуждался - и шел прямо к цели.
Однако без меня "Ольшанская тайна" (номер дела со временем найдете в
архивах) не была бы не только распутана, но не дошла бы и до середины
развязки.
Ею просто никто не заинтересовался бы.
Тень слуха, тень сплетни тоже оскорбляет человека. И вот теперь, спустя
несколько лет, я могу, наконец, завершить свой рассказ и отдать вам мои
записи, слегка систематизировав и упорядочив их. Никто не против, тем более
я сам. Распутан последний узел, все доведено до полной ясности.
Что же касается моего тогдашнего характера (эта история очень изменила
меня), то я ничего не исправлял. Пусть он будет таким, каким был. Ведь это
же он тогда переживал, думал и действовал...
Как меняется человек! Все новое и новое наплывает на душу, новые мысли,
взгляды, страсти, печаль и радость, - и сам удивляешься себе прежнему. И
жаль себя прежнего. И невозможно - да и не хочется - вернуть былое.
Я отдаю вам его, я отдаю вам себя на суд строгий и беспристрастный.
�ГЛАВА I�
Визит встревоженного человека
Фамилия моя Космич. Крещенный (это все бабка) Антоном. Отца, если
хотите, звали Глебом. Мать - Богуславой. Занятие родителей до революции?
Отец, окончив гимназию, как раз успел на Зеленого и Махно. Мать - года три
как перестала играть в куклы.
Я даю вам эту развернутую анкету для того, чтобы все было ясно. Анкету
с добавлением милицейского описания примет. А вдруг чего-то натворю?
Особенно при моей склонности впутываться в различные приключения, на которые
мне к тому же везет.
Мне без малого тридцать восемь лет. Старый кавалер*, как говорила моя
знакомая Зоя Перервенко, с которой у меня тогда как раз кончался короткий и,
как всегда, не очень удачный роман.
______________
* Кавалер - в белорусском языке имеет еще и значение "холостяк".
Этакий старый холостяк, который из-за войны да науки не женился, а
теперь уже поздно.
Жизнеописание этого старого холостяка подано пунктиром. На два года
раньше, чем положено, окончил школу. Щенком с мокрой мордочкой. В сорок
первом. Накануне. С выпускным балом, девочкой в белом и вальсом до утра.
Глупый, избитый, затасканный дрянными писателями прием. Но тут так и было. К
великому сожалению и скорби. Потому что в то утро две первые бомбы упали на
почтамт и кинотеатр. Мы с нею были в кинотеатре, так что все это произошло
на моих глазах.
Тряс перед военкомом свидетельством об окончании школы. Паспорта еще не
было. Но поверили. Здоровая вымахала дубина. Взяли.
И хлебнул я тут сполна. Родной городок. Отступаем... Над паровой
мельницей единственный уцелевший репродуктор, и из него - бравурный марш. И
наровлянин Коляда, командир моего отделения, весь в пыльных бинтах, резанул
по нему из автомата (мало их еще тогда было, чуть ли не единицы).
Резанул, "чтоб не звягав, паразит".
Здесь и окончилась моя возвышенная юность. Здесь, а совсем не тогда,
когда мы прикрывали отход наших и Коляду убили, а меня, засыпанного землей,
взяли в плен. Было это севернее Орши.
Я удрал из эшелона под Альбертином. И здесь же, в Слониме, чуть снова
не попался... Спас меня дядька Здислав Крыштофович. Как только наши его не
хвалили: и прислужник, и подпевала, и...
Немцы потом, в конце сорок второго, повесили его, хорошего человека, в
деревне под Слонимом. И ладно хотя бы то, что уже десять лет стоит ему в той
деревне памятник.
Вот так, друзья.
Потом была партизанщина. Снова армия. Сильно изранен возле Потсдама.
Демобилизован.
И начали меня в университете учить "уму-маразму". В пятьдесят первом
получил диплом. В пятьдесят четвертом аспирантуру окончил. Удивляюсь, как от
всей этой науки не стал неисправимым дубом. Диссертацию защитил по
"шашнадцатому" столетию: деятели реформации, гуманисты.
Стал кандидатом наук, специалистом по средневековой истории, не совсем
плохим палеографом. Написал несколько десятков статей, три монографии -
можно и в доктора подаваться. Это и собираюсь сделать. Вот-вот.
"Молодой талантливый доктор исторических наук".
Тьфу!
Особые приметы:
Светлый шатен, глаза синие, нос средний, рот - вроде щели в почтовом
ящике на главпочтамте, морда - смесь варяга с поздним неандертальцем, руки -
как грабли, ноги длинные, словно у полесского вора.
Спортивные данные:
Сто девяносто один сантиметр роста, восемьдесят девять килограммов
веса. Плаванье - первый разряд, фехтованье - второй - а будь ты неладен!
Отношение к баскетболу? Мог бы и в баскетбол. Но на первой тренировке кто-то
вытерся об меня потной спиной. Понимаете, не рабочий пот, не женский, а
резкий запах волосатого тела, которое едва не истекало жиром... Бросил это
дело. Брезглив, извините.
Футбол не люблю. В гимнастике - нуль. Не знаю, смогу ли пятнадцать раз
подтянуться на турнике.
Вот, кажется, и все, что интересует людей.
Ф-фу-у!
А насчет того, чем дышу, что только мое, так это розыск, поиски в
прошлом. Помимо упомянутых выше трудов, написал еще несколько, наподобие...
ну, строго обоснованных документальных исторических детективов, что ли.
Некоторые появились в журналах. Другие ожидают своего часа: "Злая
судьба рода Галынских", "Убийство в Дурыничах" и т.д. Если вот эта история
вас заинтересует, я когда-нибудь познакомлю вас и с ними.
Смешно? И в самом деле, смешно. Научный работник - и вдруг
пинкертоновщина в далеком прошлом. Мне тоже смешно. Зато - интересно.
И вот писал я, писал - скорее из желания победить чувство своей
неполноценности, потому что писатель из меня никудышный - эти произведения
популярного теперь жанра, писал и не знал, что однажды вечером судьба - в
лице одного встревоженного человека - впутает меня в настоящий детектив.
В тот омерзительный мартовский вечер я как раз готовился к работе.
Говоря откровенно, мне не терпелось дорваться до нее: многие месяцы я
занимался не тем, чем хотелось.
Для меня эти первые минуты - едва ли не величайшее наслаждение в жизни.
Методично разложить на столе вещи: чистая бумага - справа, слева - место для
исписанной. Немного подальше справа - вымытая до скрипа пепельница. Возле
нее нетронутая (обязательно нетронутая!) пачка сигарет. Две ручки заправлены
чернилами. На подоконнике слева свежесмолотый кофе в герметической банке и
кофеварка. На столе ни пылинки.
Сам ты только что побрился, принял ванну, обязательно надел свежую
сорочку. Перед тобой белоснежный лист лоснящейся бумаги. Зеленая лампа
бросает на него яркий, в салатном полумраке круг. Ты можешь отложить работу
до утра - все равно, ты подготовлен к ней, а можешь сесть и сию минуту.
И дьявол с ним, что за окном беснуется и косо метет мартовская снежная
мокрядь, за которой едва можно различить сиротливые уличные фонари,
съежившиеся тени прохожих, ленивый башенный кран поблизости и красную иглу
телевышки вдалеке. Ничего, что так скорбно содрогаются облепленные снегом
деревья, так смолянисто и бездонно блестит под редкими фонарями асфальт.
Пусть. У тебя тепло. И ты весь, и кожей, и нутром, подготовлен к
большой работе, единственно надежному и безусловному, что у тебя есть. И все
это - как ожидание самого дорогого свидания, и сердце замирает и падает. И
чистый, целомудренный лист бумаги ждет первого поцелуя пера.
Звонок!
Я выругался про себя. Но стол был убран и ожидал, и мог ожидать до
завтра, и, может, это было еще лучше - подольше чувствовать ликующую
неутолимость. Лечь спать, зная, что "завтра" принесет первую - всегда
первую! - радость, и проснуться с ощущением этой радости, и встать, и взять
ее.
К тому же звонок был знакомый, "только для своих". Да и кто потащился
бы куда-то из дома в такую собачью слякоть без крайней нужды.
Я открыл дверь. На площадке стояла, переминаясь на длинных, как у
журавля, ногах, худая, тонкая фигура в темно-сером пальто, домотканом
клетчатом шарфе, толстом, словно одеяло, и в бобровой шапке.
Правда, бобр этот весьма напоминал кошку после дождя: вернулся в родную
стихию.
- Заходи, Марьян.
Он как-то странно проскочил в прихожую, захлопнул за собой дверь,
вздохнул и лишь тогда сказал:
- А быти тому дворцу княжеску богату, как костел, да и впредь
фундовать* костелы.
______________
* Фундавать - основывать что-либо, жертвовать на что-либо; делать во
что-то вклад, а также ставить угощение, хотя это и не совсем из той оперы
(бел., польск.).
Мы с ним любили иногда побеседовать "в стиле барокко". Однако на этот
раз шутка у него не получилась: слишком грустной была улыбка, слишком
неуверенно расстегивали пальто худые длинные пальцы.
Это был Марьян Пташинский, один из немногих моих друзей, "ларник*
ученый", один из лучших в стране знатоков архивного дела, более известный,
правда, как коллекционер-любитель. Коллекционер, почти до невероятия
сведущий, вооруженный глубочайшими знаниями, безошибочным вкусом, собачьим
нюхом на фальшивое и подлинное, стальной интуицией и чувством на подделки.
______________
* Ларник - главный над архивом (древний бел. яз.).
Он едва не единственный человек из ученого мира, кто относится без
иронии к моим историко-криминальным поискам. А я люблю его бесконечные
рассказы о вещах, бумагах, печатях, монетах и обо всем прочем.
Оба мы холостяки (от него ушла жена, легкомысленная кошечка - актриса),
оба в свободное время ловим рыбу и спорим, оба принимаем друг друга такими,
какие мы есть.
И вот именно потому, что я знаю его, как себя, я сразу заметил, что
сегодня он не тот, не такой, как обычно. Однако с вопросами лезть не стал.
Из аппарата как раз забубнил, забормотал, запыхкал в облачках пара
черный, лоснящийся на вид кофе.
- Выпьешь?
- Разве что разбавленный водой? - Вид у него был виноватый.
Разбавлять такую роскошь водой - злодеяние, но я не протестовал: у
Марьяна недавно был микроинфаркт.
- Нельзя мне, - сказал он. - А совсем без него не могу.
Быстро в наше время изнашиваются люди: хлебнул Маутхаузена и еще
кое-чего. Неудивительно, что такое сердце в сорок лет.
...Он держал чашечку длинными пальцами и больше нюхал, чем пил, и его
ноздри трепетали от наслаждения, как у Адама вблизи запретного древа. У него
было лицо, которое в плохих романах называют "артистичным": прямой нос,
темные волосы, глубоко посаженные большие глаза... Я любил его. Он был моим
другом.
- Слушай, Антось, по-видимому, меня хотят убить.
Мне показалось, что я не расслышал.
- Да. Убить.
- И стоит, - сказал я. - Такую святую Варвару упустить, отдать в руки
этому лавочнику, торгашу от коллекционерства. Милютину Эдьке.
- Я не шучу, Антось.
Только теперь я понял, почему он сегодня "не тот". На его лице, обычно
таком снисходительном и сердечном, дружелюбном и от природы добром, лежала
тень. Тень постоянной тревоги, той, что ни на минуту не отпускает, гнетет,
давит и, не переставая, сжимает сердце. Не очень сильно, но все время. И я
сразу поверил ему: такое лицо бывает у человека только тогда, когда дело
серьезное. Однако виду не подал.
- Ну что ты околесицу несешь? - улыбнулся я.
- Ты мою книгу знаешь. - Каждую свою новую книжную находку он называл с
нажимом - "Книга!". - Те три. Переплетенные.
- Ну, видел. С год она у тебя.
- Год и два месяца... Ну... вот из-за нее.
Я смутно помнил три книги размером in folio, взятые в один переплет из
рыжей кожи конца XVI столетия. Полная безвкусица. А книги действительно
очень ценные, только какой болван собрал их под одной обложкой: "Евангелие"
1539 года, изданное накладом князя Юрия Семеновича Слуцкого, здесь же
"Евангелие" Тяпинского*, да к нему прилеплен "Статут" 1580 года издания,
созданный под присмотром Льва Сапеги.
______________
* Тяпинский (Амельянович) Василий Николаевич (ок. 1540 - ок. 1604) -
белорусский гуманист, радикально-реформационный деятель, книгоиздатель.
Три книги, собранные в одном переплете каким-то варваром. Ценные книги,
но чтоб из-за них?!
- Вздор несешь...
Правда, "Евангелие" Тяпинского было чрезвычайно редким экземпляром. Из
набора были вынуты буквицы и оставлены пустые места.
Конечно, печать у Тяпинского была не та, что у Скорины. Бедная печать
очень бедного печатника. И вот какому-то богатому человеку это не
понравилось. Он и попросил для себя одну такую книгу без буквиц. А на пустых
местах велел какому-то миниатюристу нарисовать пропущенные буквицы красками
и золотом. Чтобы книга выглядела более богатой. И художник это сделал. Со
вкусом и мастерством. Но чтобы человек чувствовал себя в опасности из-за
каких-то трех десятков миниатюр?!
- Рассказывай, - попросил я.
Потому что я верил. Верил этим встревоженным глазам, чуть перекошенным
губам, неспокойным пальцам, нервной спине, напряженной, как лук (вот-вот
выскочит зверь).
- Ходят за мной все время... Под окнами снег истоптан по утрам... Когда
с работы возвращаюсь, собаки нервничают. Несколько раз замечал, что на
пустыре отираются какие-то темные личности.
- Ладно. Предположим, из-за книги. Но откуда им знать, что она у тебя?
- Имел глупость показать. В феврале была выставка в публичной
библиотеке. Старая печать. Там были книги из библиотек, а также из частных
собраний.
- И что?
- А то. - Он все же отхлебнул остывшего кофе. - Я стою возле своих книг
и объясняю. Поодаль маячит какой-то. Высокий, лет на восемь старше нас с
тобой, но еще не седой, темный блондин. Лицо буро-красное, словно
загоревшее, несмотря на зиму. По типу и одежде - не разберешь: то ли
деревенский учитель, то ли председатель сельсовета. Руки не то чтобы
натруженные, но все же...
Марьян отхлебнул еще раз.
- И просит: не позволите ли взглянуть? И такая в его голосе
почтительность, такое неподдельное уважение к настоящей учености, так
волнуется, что даже покраснел, я и позволил. Листает как человек. Даже
слишком осторожно. За верхний угол страницы. Приглядывается. Едва не читает
некоторые места. Приятно было, что есть люди, которые хотя и не очень много
знают, но интересуются, любят книги.
Он сидел на тахте, на пестрой лельчицкой постилке, и в полумраке влажно
блестели его глаза. Кофе он допил. Сплел пальцы в замок на узком и сильном
колене.
- И вот тут первое, что мне не понравилось. "И где же вы это достали?"
- "Нашел на одном чердаке среди ненужных книг". - "И неужели это продают и
покупают? Может, и вы продали бы?" - "Я ищу... Не жалею ни ушей, ни глаз, ни
ног. Покупать такие вещи у меня купила нет. А продавать - тоже не продаю.
После моей смерти все эти вещи, за исключением некоторых, будут переданы
музею моего родного городка". - "А-а... - И какая-то такая странная
скованность появилась в его движениях. - Так почему бы теперь не продать?" И
ушел... Дай сигарету.
- Вредно тебе.
- Порошковое молоко пить вредно... Не понравился он мне под конец...
Словно какой-то здоровенный зверь с металлическим зубом обнюхал все,
разведал и ушел... Надо бы все это уже теперь отдать музею. Да не могу. До
сих пор не мог. Выше моих сил было. Ты помнишь, как я собирал. Как в Воронке
под руины монастыря в замаскированный тайник на брюхе лазил, как от селедки
на базаре спасал книги, как мне мой Микола, на котором дрова кололи,
достался, как меня под Слонимом в кремневой шахте завалило, как я все это
реставрировал, пылью дышал, от химикатов кашлял... Все это добро от смерти
спасено. Вот полюбуюсь до лета и отдам. Опустеет хата. И не сюда отдам, чтоб
пылилось в запаснике, а в свой Руцк. Там они царями стоять будут. Опустеет
хата... Ну, да это скоро... Теперь уже скоро.
- Плюнь.
- Нет, братка, знаю. Теперь скоро.
- Не курил бы.
- Не могу. Ограничиваю себя, а не могу.
Смял сигарету. Красивый он, когда думает. Не то что я с моей варяжской
мордой. И дурища же эта проклятая баба, его бывшая жена. Ах, мотылек
серебристый! Ах, сю-сю! Ах, знаменитый Иванский с гомерическими ляжками! Ах,
Кафка! Ах, сцена! А сама ни в сцене, ни в Кафке ни в зуб ногой. Как скажет,
так с поля ветер, а из... дым. Гордилась бы, что хоть один человек в семье
умный. Я на ее месте туфель такого человека целовал бы, как папы римского.
Да она, я слыхал, и хотела вернуться, только он не пожелал.
- Потом звонок, - продолжал Марьян. - Молодой интеллигентный голос
(теперь все интеллигентные): "Продайте". - "Не продается. Это собственность
музея в Руцке, а не моя". И еще подобный звонок, другим голосом. А потом
чуть не каждую ночь: "Продайте, продайте, продайте".
- Ты что, не знаешь, как телефонных хулиганов ловить?
- Пробовал. Звонили из автоматов в разных концах города. "Продайте!
Продайте!"
- Набери единицу и положи трубку. Никакой гад не дозвонится.
- Не могу. Каждую ночь ожидаю звонка.
- Что такое?
- У Юльки рак.
Юлька - его бывшая жена. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Я молчал.
Куда-то отступили недобрые мысли о ней. Перед этим все равны. Мне стало
стыдно.
- Она об этом еще не знала, когда хотела вернуться. Лежит теперь в
Гомеле. Деньги тайком посылаю. Медсестра сообщает мне обо всем. Звонит.
Говорит: после операции легче. А я не верю. Думаю каждую ночь: вот раздастся
звонок. И все кажется, что я об этом знал и оттолкнул. Вернуть бы сейчас. Да
нет, не простит.
Бог ты мой, он еще и слово "прощенье" помнит, святой осел! И весь
напряжен, и весь встревожен - черт бы тебя, собачьего сына, любил.
- Ну, об этом хватит. Возвращаться ей к человеку, который сам
отправляется в путь, незачем. Только бы выздоровела. - Лицо его вдруг стало
решительным. - И сожалеть о том, что не сбылось, не стоит. Но звонка ожидаю.
А вместо него - каждую ночь - они. Знаешь, тревожно мне.
Милый ты мой, я это увидел, как только ты вошел. И то, что плохо. И то,
что ты похож на единственную барочную скульптуру в моей квартире: на
"Скорбящего", который над твоей головой. Страшные глаза. И этот венец. Как я
не замечал прежде?! Завтра же выселю святого в другую комнату.
- И... боюсь, Антось. Ты знаешь, я никогда не был трусом. Вместе бывали
в разных переделках.
- Знаю.
- А тут паршиво. Подходит кто-то к окнам. Собаки ворчат, как на
нечистую силу. Однажды в прихожей какой-то запах появился.
- В милицию позвони.
- Из-за неясных подозрений? - Он вдруг тряхнул головой и улыбнулся. -
Хватит тебе... А постоянный страх - он, может быть, из-за сердца. У
сердечников это бывает, такие приступы неосознанного, беспричинного страха.
У меня и прежде были. Не привыкать.
- Я тебе и говорю - плюнь. Обычные барыги. Хочешь рюмочку коньяка?
Тревога все же не оставила его.
- Может быть. Но почему книга? Почему одна эта книга? Почему не мой
Микола? Не грамота Жигимонта* мытникам** - там ведь один ковчег чего стоит!
Почему именно эта книга?
______________
* Жигимонт - древняя белорусская форма произношения имени Сигизмунд.
** Мытник - таможенник, досмотрщик на городской заставе (древний бел.
яз.).
- Не знаю. Давай посмотрим.
- Вот я и хотел. Да не рискнул нести: темно. - Он поднялся.
- Ну, будь здоров, брат. И плюнь на все.
- Ты... зайди ко мне послезавтра, Антось. Поглядим. Я хотя и архивный
работник, но как палеограф ты покрепче.
Я решил, что хватит. Надо переходить на обычный наш тон. Довольно этого
гнетущего. Ведь всякому ужасу, если он имеет плоть, мужчина может расквасить
нос.
- Так что, преосвященный Марьян?.. И псы ворчали на силу вражью, а он,
бес, в сенцах, искушая преосвященного чистоту, смердел мерзко...
- Ну точь-в-точь творения доктора наук историйских Цитрины.
- Заврался, какие это "историйские"?
- А "мусикийские" есть? То-то же... "Цитрины" и подобных ему.
Мы рассмеялись. Но все равно я углядел на дне его глаз тревогу.
...Он ушел, а тревога осталась. Я подошел к окну и смотрел, как он идет
через улицу в косых, стремительных струях снега, смешанного с дождем.
�ГЛАВА II�
"Подъезд кавалеров"
Утром меня разбудил заливистый крик петуха, а затем отчаянный,
надрывный визг поросенка: видимо, несли в мешке.
- Не хочу-у! Не хочу-у! Пусти-и-те! Пусти-ите!
Как в деревне. Каждое воскресное утро дарит мне эту радость. И это одна
из причин, почему я люблю свой дом.
Приятно говорить: мой дом, мой подъезд, мой двор. Особенно вспоминая
войну и послевоенное время: намаялись мы с отцом по чужим углам. Потом жили
в одной комнате коммунальной квартиры с коридорной системой. Потом в
однокомнатной. И вот двухкомнатная. И здесь отца потянуло доживать в свой
городок к своей сестре, а моей тетке.
- Не могу больше. Как вроде бы сделал все свои дела. А тут еще каждое
воскресенье петухи, коровы, кони - ну, зовет что-то, тянет на родину, и все.
Может, если бы не этот район проклятый. А то гляжу - поросеночек
пестренький, куры. Казалось бы, я горожанин, даже пахать не умею. А тут вот
хочется хотя бы лопату в руках подержать... Сирень зазеленела, земля пахнет,
жирная такая. На крыжовнике зеленое облако... Поеду к Марине. Там сад, будем
вдвоем ковыряться. Только ты теперь смотри женись, пожалуйста.
Он был прав. Даже я не могу усидеть на месте по воскресеньям, когда
напротив моего дома открывается рынок, где продают всякую живность: коней,
коров, золотых рыбок, свиней, овец, голубей, кроликов, лесное зверье, птиц,
собак...
До того как огородили квартал, дядьки с возами стояли себе на
тротуарах, а здоровенные хавроньи, отвалив соски, лежали, милые, на газоне.
Однажды мой друг Алесь Гудас (а он живет на первом этаже) сидел за
письменным столом, и прямо под окном его кабинета остановилась телега.
Дядьки что-то продали и решили замочить куплю-продажу. Из горлышка. Увидели
его и начали крутить пальцами у лба. И в самом деле отпетый дурак: люди
веселиться собираются, воскресенье, а он работает. Алесь покрутил пальцем в
ответ, принес и подал им в окно стакан. Тогда они первому налили ему. Жена
потом чуть с ума не сошла: откуда выпивши? В домашних туфлях, не выходил
никуда, в хате ни капли спиртного, а он только смотрит на нее и не очень
умно улыбается.
Хороший уголок! Жаль, если рынок куда-нибудь перенесут. И, главное, в
двух шагах от "деревни", от этого уголка, занесенного из иной жизни на
мостовую, идет улочка, дальше бульвар и - шумный большой город. И дома, и
замужем.
С того времени, как я не хожу на работу и путаю дни, крик петуха в
воскресенье, сквозь доброе угасание сна, для меня вроде дополнительного
календаря.
Осенью я защищаю докторскую. Два месяца законного отпуска да три
неиспользованных за прошлые годы. Я много работал, очень-очень много
работал, чтоб вот так, один раз, вволю побездельничать и заниматься чем
хочется. Книга вышла. Почти до сентября я свободен. Бог мой, никаких
библиотек, никаких архивов, если только сам этого не захочу!!!
Я считаю, что короткий отпуск - чепуха. Не успеешь приехать, размотать
удочки, подышать - на тебе, собирайся обратно. Не стоит и мараться.
И вот теперь я отдохну. Впервые, может, за двенадцать лет. Хорошо
сбросить ноги с тахты, распахнуть в холод окно, промерзнуть, сделав два-три
небрежных упражнения, помахать руками и ногами (заменять настоящую работу,
от которой звенят мускулы, гимнастикой - чушь несусветная и бред сивой
кобылы). Хорошо, когда струи воды секут по плечам и спине! Хорошо, когда
кожа краснеет от сурового рушника! Хорошо, когда трескается о край сковороды
яйцо, и скворчит ветчина, и чернеет кофе в белой-белой чашке!
Хорошо распахнуть дверь на площадку своего третьего подъезда, "подъезда
старых кавалеров".
А, все равно! Уж если надоедать, так надоедать! Если описывать людей,
то описывать, потому что каждый из нашего подъезда играл ту или иную роль в
этой истории.
В моем доме пять этажей и четыре подъезда. Мой подъезд третий. Зовут
его "подъездом старых кавалеров" недаром. По необъяснимой иронии судьбы все
наши мужчины (о незамужних девушках не говорю) или неженаты, или вдовцы,
или... Но это грустная история, о ней не надо в такое утро, когда снег
растаял, когда воздух бодр, а небо по-весеннему несмелое и пронзительно
голубое.
На каждом этаже у нас по две квартиры. Начну, конечно же, с моего
этажа. Он самый важный не только в этой повести, но и вообще. Земной шар
вертится по законам эгоцентризма.
Дверь в дверь со мной живет Адам Петрович Хилинский, который иногда
приглашает меня сыграть в шахматы и тяпнуть рюмку коньяка. Кличка его -
"Полковник в штатском" (моя, почему-то, "Тоха", так зовут нас все фраеры
двора).
Кто он? Не знаю. И знаю, кто он, лучше других. Дело в том, что
Хилинский, прослышав о моих "исторических детективах", а возможно, и
прочитав их, стал рассказывать мне разные интересные случаи из жизни с
целью, что вот бы написать о том-то и том да сделать то и это. По его
мнению, у нас на подобные темы пишут мало и неинтересно. Но я на такие дела
не мастак, потому отмалчивался.
Я смотрю на него не так, как соседи. Мне он кажется этаким "Абелем в
отставке".
Может, так оно и есть на самом деле? Кто знает... Я его не спрашиваю.
Он и не скажет. Знаю только, что прежнюю квартиру на эту обменял, хотя
эта и гораздо хуже. "Мне что, я один. И эта, пожалуй, велика, кабы не книги
да фотографии", - говорит он.
Это единственный мой друг во всем подъезде. Собственно говоря, не друг,
а приятель по шахматам, по одинокой мужской выпивке. Но не частой. Потому
что метода жизни у него странная. Бывает, что днем спит, а ночами черт знает
где пропадает. Иногда месяц-другой нет дома. Наведается на часок - и снова
нет.
Я не расспрашиваю о его работе, если сам не вспомнит чего-нибудь.
Во-первых, не знаю, о чем можно спросить. Во-вторых, не знаю, на что может
ответить, и поэтому не хочу ставить человека в неудобное положение.
В-третьих, вообще не люблю никаких учреждений, даже больниц. Кошмар! Лица
больных, плевательницы, запах. Еще с довоенного детства, с кроваво-красного
плаката в зубной поликлинике.
Только в домашних условиях я могу свести с кем-то знакомство. На службе
человек не сам по себе, не та личность, которая меня только и интересует.
Даже со своим шефом я разговорился лишь тогда, когда он пригласил меня
в гости.
Так и тут. Наверное, я псих, но что поделаешь?
Ум у него живой. Сам мог бы писать, а не подбивать других. Высокий,
седой, весь какой-то поразительно неславянский - таких только в заграничных
фильмах увидишь. Англичанин? Норвежец? Но похож на сильно вытянутый
треугольник - плечи широкие, а бедер почти нет. Ноги при ходьбе, чтоб не
нарушить этот треугольник, ставит близко одну от другой.
Одет всегда безукоризненно, да еще с длинной трубкой в зубах - прямо
"Мистер Смит на Бобкин-стрит". И только на охоте, на рыбалке - ездили
несколько раз - или у себя дома, где нет посторонних, все это подменяется
типично славянской, более того, белорусской разболтанностью. Может спать где
попало и как попало: кацавейкой у костров пятьсот раз "лисицу поймал"; на
ногах стоптанные сапоги - заплата на заплате. И все равно, даже в лохмотьях,
- щеголь, ничего не скажешь. И азартный, зараза, черт бы его побрал.
Однажды, когда бестолковая собака искала не там, где надо, сам, прямо во
всей амуниции, из лодки в воду сиганул. За уткой.
Знакомство наше началось с болтовни во дворе. Говорили что-то об
увлечениях людей, ну я и решил спросить, какое у него хобби.
- Бабочки, - ответил он не только серьезно, но и мрачно.
- Мотыльки?
- Я с вами по-белорусски говорю. Женщины.
Ничего себе манера шутить. Донжуан нашелся. На самом деле его хобби -
гравюры и книги. Часть их исчезла, когда хозяйство вела в одиночку его
сестра. Но даже то, что осталось, удивляет. Богатейшее собрание книг:
история права, философия, особенно - биология. Хребта этого подбора я,
откровенно говоря, так и не смог нащупать.
Со временем эта библиотека опять пополнилась, да еще появились на
стенах разные египетские, индонезийские и африканские вещи.
Сестра и теперь раз в две недели приходит к нему, помогает вести
хозяйство. Иногда она приводит с собой свою домашнюю работницу. Остальное
Хилинский делает сам. Он это умеет лучше меня. Устроиться везде с
максимальным комфортом - его правило.
О себе говорить он не любит. Лишь однажды всплыло кое-что. Смотрели мы
"Иваново детство". Гениальный фильм. Дело, по всему видать, происходит в
Белоруссии. И мальчик из Белоруссии. Вот там этот мальчик и задает вопрос,
что-то вроде: "А что такое Тростенец*, ты знаешь?" Тут я и увидел, как его
передернуло.
______________
* Тростенец - лагерь смерти под Минском, созданный фашистами во время
Великой Отечественной войны. Здесь сожжено более 200 000 человек.
Ну, о нем пока что хватит. Пойдем наверх. На пятом этаже три мастерские
художников. Кто они дома - не мне судить, но, по моему мнению, в своих
мастерских все художники - холостяки, за исключением, возможно, совершенно
честных да дураков, что, может быть, одно и то же. Когда мимо моей двери
катится полуночный вал споров или утром тихонько позвякивает стекло в
чемодане, я знаю, что это альфа и омега моих художников.
На четвертом этаже живет вдовец Кеневич с подростком сыном, весьма
неинтересный человек, а напротив него - Ростик Грибок, человек двадцати
одного годика, с мамой.
Грибок из одного ведомства с приятелем Хилинского, полковником
уголовного розыска Андреем Арсентьевичем Щукой, который часто заходит к
Хилинскому поиграть в шахматы (тогда тот из нас, кто пришел позже, вынужден
копаться в библиотеке). Еще они ездят вместе на охоту и рыбалку, а иногда к
ним присоединяюсь я, потому что все мы в чем-то схожи. Пожалуй, нас
объединяют и охота, и рыбалка, и потребность вечно, ни с Днепра ни с поля,
острословить.
Таким образом, между нами полное доверие и относительное знание друг
друга.
Хилинский сам пожелал жить именно в этом доме и Грибка переселил к
себе. Видимо, любит он его, а может, и просто так.
Грибок никакой не грибок, а здоровенный грибище, хотя и совсем молодой,
свежий, ядреный. А все же грибок. Из-за твердых (так и хочется всегда
ущипнуть) щечек, из-за темно-коричневых боровиковых глаз, из-за общего
ощущения чистоты, боровой ясности и легкой, по возрасту, ну... бездумности,
что ли.
Теперь давайте спускаться с моего этажа вместе со мной. Легкое эхо
шагов на ступеньках.
Второй этаж. Здесь живет лекарь, к которому я, слава богу, еще никогда
не ходил и ходить не хочу, да и вам не советую. И пусть он вообще останется
без работы и разводит гладиолусы, потому что он - психиатр и, кажется,
работает в доме сумасшедших. Когда я встречаю его, мне всегда хочется запеть
московскую песенку:
Балалаечку свою
Я со шкафа достаю,
На Канатчиковой даче
Тихо песенку пою.
Вижу - лезет на забор
Диверсант, бандит и вор.
Я возьму свою гранату
И убью его в упор.
Комплекс это какой-то у меня, что ли?
У психиатра в двери есть глазок, который вставила одна из женщин, что
иногда приезжают к нему. А мне все время кажется, что это он побаивается
массового визита своих пациентов на дом. Имечко его, к вашему сведению,
Витовт Шапо-Калаур-Лыгановский. Если бы мне такое - я женился бы на Жаклин
Кеннеди. Нет, не женился бы. Потому что на ней, как говорил один мой
знакомый, уже "женились две эти старые балканские обезьяны. А я лучше женюсь
на... Мерлан Мурло".
Однажды шли мы с психиатром вместе от троллейбуса и как-то разговор
зашел о том, кто откуда, об именах и т.д.
"Черт его знает, откуда у меня такая фамилия, - сказал он. - Про своего
прадеда только и знаю, что имя. Интеллигентный. Наверное, из лапотной
шляхты. Гонор, видимо, вот и вся музыка. Нет денег, так давай тройную
фамилию".
А вот и он сам. Прекрасно сложен, породистый бронзовый лик - будто
средневековый кондотьер с медали. Волнистая грива серебряных волос, рот с
твердым прикусом, серые глаза смотрят пристально. Редко мне доводилось
видеть более красивое мужское лицо. И более умное - тоже.
Беседует с молодым человеком, своим соседом. Тот в меру пристойный, в
меру ладный, в меру миловидный. А вообще-то о нем только и можно сказать,
что у него в руке ведро для мусора.
- День добрый, сосед.
- Денечек и добрый.
Первый этаж. Слева на площадке квартира, в которой то ли киностудия, то
ли театральный институт, то ли балетная студия (так и не понял что, а
спрашивать неудобно) разместила четверых своих девушек. Там часто песни,
веселье, гитара. Вечерами они с какими-то парнями стоят в подъезде у
радиаторов, и по утрам там много окурков. Когда я иду, девушки провожают
меня глазами. Довольно часто. И я с этаким жеребячьим весельем молодцевато
дрыгаю мимо них.
Значит, я пока что ничего себе. Хо-хо!
Девушки красивенькие, с пухлыми ротиками, с глуповатыми еще, словно у
котят, широкими "гляделками", с пышными хвостами волос. Брючки обтягивают
формы, обещающие со временем стать весьма качественными.
Красивые, только не для меня. Мне без малого сорок, а самой старшей из
них, на глазок, двадцать - двадцать один. Связаться, чтоб через десять лет
наставили рога? Этакое удовольствие уступаю вам. Стар я для них. А иногда,
когда вспомнишь бомбы, и плен, и все, что было потом, так даже кажется - и
вообще уже стар.
Справа на первом этаже дверей нет. Там - вход в подвал.
Для любителей достоверных сведений подвожу итог:
Квартира ? 22 - девичье-цыганская богема (масло масляное).
Квартира ? 23 - интересный молодой человек с ведром.
Квартира ? 24 - Витовт-Ксаверий-Инезилья-Хосе-Мария Шапо-Калаур-Лыга-
новский, мастер по человеческим мозгам, с медным ликом Скалигера Кангранде*.
______________
* Скалигер (1291-1329), прозванный Кангранде (Большая Собака) - глава
партии гибеллинов и властелин Вероны. Чертами его облика Данте наделил
тирана Эдзелино ("Ад", песня 12).
Квартира ? 25 - азартный полковник с Бобкин-стрит.
Квартира ? 26 - я со всеми своими комплексами.
Квартира ? 27 - Кеневич со своим долговязым отпрыском.
Квартира ? 28 - поляночка с Грибком. "Во лузе на одной нозе".
Пятый этаж - три мастерские неженатых художников.
...Двор. Обычный новый двор с молодыми деревцами, лавочками, газонами,
выбитыми, как бубен, любителями игры в футбол. От снесенных хат окраины во
дворе чудом уцелели двухэтажный домик, дуб, заросли ясеня, пара груш да
несколько обреченных яблонь и вишен.
Дворник Кухарчик бросает свое "драстуйте". Этакий обалдуй с жестким
лицом и короткими волосами. И во все он лезет, всем дает советы, все ему
надо знать.
Меня он почему-то считает самым умным человеком улицы. Я этим
оскорблен: почему только улицы? Его не проведешь, и он возникает за спиной
(у него есть свойство и умение возникать как из-под земли) и задает вопрос.
Чаще всего после его вопросов испытываешь такое ощущение, будто
проглотил горячий уголек, одновременно получив удар под ложечку.
- А китаец китайца в лицо отличит?
- А вот интересно знать, Антон Глебович, какой смысл в кипарисах, что
на юге?
Сегодня вдруг это:
- Не знаете, случайно, как дворник по-латышски?
- Setnieks, - "случайно знаю" я.
Выхожу со двора. Улица. Не "деревенская" сторона, а "городская".
Автобусы, дома, реклама, марсианская тренога телебашни вдали. Шум городского
потока, упрямый и неумолимый.
И, как последний аккорд того, что есть мой дом и мой двор, - табачный
киоск, в котором сидит мой старый знакомый "бригадир Жерар", как называю его
я, Герард Пахольчик, которому я активно помогаю выполнять план.
Он и в самом деле, как герой, сидит в своей будке. Прямой, среднего
росточка, усатый. В детских, широко открытых глазах наив. И сходство с
ребенком подкрепляет желтоватый пух на голове.
Этот тоже из любопытных, как и Кухарчик. Но тот из "суетливых"
любопытных, а этот - "любопытный философ". Тот лезет, подозревает,
сомневается, этот - сидит на троне и вопрошает въедливо и серьезно. Тот
видит ненужное и несущественное, этот - "зрит в корень". Тот только слушает,
этот - еще и дает советы с высоты опыта, приобретенного в беседах с умными
людьми. А глаза следят, и сверлят, и видят все.
Но обоим свойствен широкий диапазон интересов. Только первый
интересуется смыслом существования кипарисов, которые не дают ни плодов, ни
древесины, а второго интересует политика в Непале и вообще все от
космических полетов и способа варить малиновое варенье - аж до теории
красного смещения и летающих тарелок, которые он обязательно называет НЛО
(неопознанный летающий объект).
Покупаю пачку "БТ". Ножничками из своего перочинного ножа надрезаю
часть крышки. Наблюдает пристально, будто наш разведчик в ставке Гудериана.
- Как-то странно вы сигареты открываете. Ведь вот потянул за ленточку -
и готово. А вы ножницами. И только один уголок. Уже сколько месяцев я
наблюдаю - всегда только правый уголок. Можно ведь потянуть за ленточку и
снять крышечку.
- Я, многочтимый мой пане* Герард, - то, что в плохих старых романах
называли "старый холостяк с устоявшимися привычками".
______________
* Звательный падеж (клiчны склон) до сих пор живет в белорусском языке,
"из всех славянских языков наименее измененном" (А.Мицкевич). Формы "пане",
"браце", "дзеду", "Iване", "Адаме" и т.п. - в полный голос звучат и сейчас.
- "Устоявшимися привычками", - повторяет Герард. - Так все же зачем
уголок?
- Портсигаров не люблю. А снимать всю крышку - табака в карман
натрясешь.
- Так почему правый?
В самом деле, почему правый? Почему я всегда надеваю сперва левый
туфель?
- Буквы туда смотрят.
- А-а.
�ГЛАВА III�
Дамы, монахи и паршивый белорусский романтизм
В ответ на звонок из глубины квартиры долетел, приближаясь, громовой
собачий лай.
- Гонец к скарбнику Марьяну, - сказал я.
Два тигровых дога, каждый с доброго теленка, узнав меня, со свистом
замолотили толстыми у корня хвостами.
- Эльма! Эдгар! На место, слюнтяи паршивые!
Квартира Пташинского - черт знает что, только не квартира. Старая,
профессорская, отцовская, чудом уцелевшая в этом почти дотла уничтоженном во
время войны городе.
На окнах узорчатые решетки: библиотека папаши была едва не самой
богатой частной библиотекой края (не считая, конечно, магнатских). Чудом
уцелела в войну и библиотека, но сынок спустил из нее все, что не касалось
истории, - государству, чтоб освободить место своим любимым готическим и
барочным монстрам. Монстры выжили отсюда не только книги, но и... да нет,
это я крайне неудачно, отвратительно хотел пошутить.
Марьяна бы к нам вместо девчат. Был бы целиком холостяцкий подъезд. Но
он отсюда не поедет, потому что здесь хватает места для его кукол, хотя
квартира и неудобная: бывший загородный дом, к которому сейчас подползает
город. Четыре огромные комнаты с потолками под небо. А за окнами пустырь:
дно бывших огромных, давно спущенных прудов и берег с редкими купами
деревьев, за которыми еле просматриваются строения парникового хозяйства.
С другой стороны к дому примыкает заброшенное кладбище. Когда подходишь
к дому наполовину вырубленной аллеей высоченных лип, видны его ворота в
стиле позднего барокко.
В комнатах форменный Грюнвальд: под потолком летают ангелы, вскидывают
кресты из лозы Яны Крестители, а Яны Непомуцкие несут под мышкою собственные
головы, будто арбуз в трамвае. Юрий с выпученными от ужаса глазами попирает
ногой змея, рыдают уже триста лет Магдалины. Иконы на стенах, иконы, словно
покрытые ржавчиной, по углам и иконы, распростертые на столах, свеженькие,
как будто только из Иордани, улыбаются человеку, снова их сотворившему.
Пахнет химией, деревом, старой краской. Золотятся корешки книг. Скалят зубы
грифоны, похожие на грустных кур.
И все это чудо как хорошо! И среди всего этого, созданного сотнями
людей, две собаки и человек. Лучший мой друг.
- Имеется что-нибудь пришедшим с мороза, иконник?
- Сегодня оттепель, золотарь, - ответил он.
- А по причине оттепели есть? - спросил я.
- По причине оттепели есть сухие теплые батареи... Вот.
- Законы предков забываешь? - спросил я с угрозой.
- При Жигимонте лучше было, - сказал он, ставя на низенький стол
начатую бутылку виньяка, лимон, "николашку", тарелку с бутербродами, сыр и
почему-то моченые яблоки, - однако и король Марьян немцев не любил, и ляхов,
и всех иных, а нас, белорусцев, жалел и любительно миловал.
- Начатая, - разочарованно протянул я.
- Будет и полная.
- Так и ставил бы сразу.
- Знаешь, что считалось у наших предков дурным тоном?
- Что?
- Блевать на середину стола. Вот что считалось у наших предков дурным
тоном. Древний кодекс пристойности. "А нудить на середину стола - кепско и
погано и негоже".
- На край, значит, можно? - спросил я.
- Об этом ничего не сказано. Наверное, можно. Разрешается. Что же тут
страшного?
- Неуч ты. На свой край разрешается. На чужой, vis-a-vis - ни-ни!
- Приятного вам аппетита, - сказал он.
- Сам начал.
Себе он плеснул на донышко.
- Ты не сердись, - словно оправдываясь, сказал он, и только теперь я
заметил на ногтях у него голубой оттенок. - Немножко - не вредит сердцу.
Наоборот, полезно. Все врачи говорят. Кроме того, мне скоро вообще ничего не
будет вредно.
- Ну-ну, - сказал я.
- Сам момент, наверное, не страшен, - задумчиво продолжал он. -
Ожидание - вот что дерьмо собачье. Собачье предчувствие беды.
Эльма и Эдгар внимательно смотрели на него, иногда переводили глаза на
меня.
- Как вот у них. Представляешь, сегодня под утро выли с час. Никогда в
жизни такого не слышал. И не дворняги же они, а собаки цивилизованного
столетия... Съездим ли мы с тобой еще на рыбку? Поедем, как только
освободятся воды?
- А как же.
Всю жизнь буду казнить себя за свой тон во время этой беседы. Будто
слышал, как человек внутренне вздыхает: "о-ох, пожить бы", а сам отвечал,
тоже внутренне: "не ной, парень, все хорошо".
- Показывай книгу, - сказал я.
Мы держали том на коленях и не спеша листали страницы. Подбор этих трех
переплетенных в одну книг был странный, но мало ли странного совершали люди
тех времен? Их логика трудно поддается нашему пониманию. Переплел ведь
неизвестный монах в одну тюрьму из кожи "Сказание об Индии богатой",
"Сказание о Максиме и Филиппате" и "Слово о полку Игореве".
"Евангелие" Слуцкого. Крайне редкая вещь, но ничего особенного,
"Статут" 1580 года. Видимо, действительно, первая печать, насколько я мог
судить (сколько бы статут ни перепечатывался - год ставили тот же самый,
1580-й). Но инициалы "Евангелия" Тяпинского - это было интересно.
Для печати этой книги была характерна строгость. Каждая страница жирно,
поперек, словно перерезана пополам. На верхней половине страницы
старославянский текст, на нижней - древний белорусский. Сухой, строгий
шрифт, ничего лишнего. И вдруг среди этого протестантского пустыря я увидел
чудо: заставки и инициалы, цветущие маками, серебром и золотом так, что
глазам становилось больно. Цветы, стебли, воины, кони - все в ярком,
причудливом, радостном полете стремилось со страницы на страницу.
- Язычник, - сказал я. - Откуда такое чудо?
- Вот надпись.
Надпись на обратной стороне обложки была, видимо, из чернильных орешков
и камеди: рыжие чернила выцвели. XVI-XVII столетие. Самый канун бешеного
натиска Польши. Но я не мог оторвать глаз от цветущего луга, и мне не
хотелось вглядываться в путаную рыжую вязь.
- Ты не ответил. Все же откуда?
- Ольшаны.
- Что-то слышал, но туманно. Где это?
- Исто-рик... Местечко... Километрах в тридцати от Кладно... Князьям
Ольшанским принадлежало. Гедиминовичи. Очень древний белорусский род.
Многочисленные поместья по Неману и Птичи, несколько собственных городов.
Все время высокое положение. Подкрепляли его тем, что королям города дарили.
- Припоминаю, - сказал я. - Ведь это же один из них - Голаск - городок
Сигизмунду Августу "подарил", а тот его "подарил" Яну Ходкевичу.
- Да.
- И еще один из них во время междоусобицы Свидригайлу в плен захватил.
- Из этих, - сказал Марьян с некоторым удовлетворением, что вот, мол, и
друг не ногой сморкается. - А те Ольшаны их майорат и испокон веков им
принадлежали. С бортными деревьями, с селами и реками, в которых бобров
можно гоняти.
- И каждого пятого бобра себе, - начал хулиганить и я, - а остальных
пану. Или себе подчеревье от каждого бобра.
- Гля-яди-и ты. И "Устав на волоки" знает. Начитанный, холера!.. Ну так
вот. Книгу эту я нашел в Ольшанах на чердаке хаты деда Мультана. Есть там
такой. Он сторож при замке и, главное, при костеле. Исключительно любопытный
тип. Сгорбленный, как медведь. Немного охотник. Философ.
- Ты это мне для чего все выкладываешь?
- Да все в связи с этой тревогой. Мозг лихорадочно ищет. Все
обстоятельства вспоминает, все самые незначительные случаи.
Он смотрел в окно на пустырь и на кроны кладбища вдалеке.
- Этот замок - обычный дворцово-замковый ансамбль, - словно припоминая
или находясь в бреду, стал рассказывать он. - Разве что один из первых
такого рода. Самая середина XVI столетия. Может, десятью - двадцатью годами
позже. Уже не совсем замок, хотя и ближе к нему, чем к дворцу. Мрачное
сооружение. Местный валунный гранит, багрово-коричневый с копотью, почти
черный. Ну, и вокруг вода. А немного поодаль костел со звонницей. Он более
поздний. Начало семнадцатого века. И все это вместе порождает в тебе что-то
гнетущее, тяжелое, мрачное. Ну, как будто проклятие на нем какое-то, как
будто привидения там до сего времени блуждают.
- Книг начитался, олух.
Он вдруг обернулся. Резко. Стремительно.
- Да. И книг тоже. Представляешь, не у одного меня все это вызывает
такое ощущение. У всех вызывало. Всегда. И это не мое, субъективное, а общее
ощущение. Вот смотри...
Марьян бросился к стеллажам и, долго не роясь, - видимо, не раз уже
смотрел - извлек маленькую пузатенькую книжицу.
- Обложки нет. Кто-то из местных провинциальных романтиков прошлого
столетия. Ясно, что местный, потому что на каждом шагу встречаются
диалектизмы. Пишет по-польски, не очень-то зная этот язык, а скорее зная его
как местный, шляхетский диалект. Р-романтик! Знаешь, как эти авторы всяких
там "Piosenek wiejskich z-nad Niemna i Szczary"* да "Чаро?ных Яна? з-пад
Нарачы"**. Напишет книгу под названием "Душа в чужом теле, или Неземные
радости на берегах Свислочи" и радуется.
______________
* "Песенок деревенских с берегов Немана и Щары" (польск.).
** "Чарующих (пленительных, очаровательных, обворожительных и т.п.)
Янов из-под Нарочи (бел.). Нарочь - живописное озеро на северо-западе
Белоруссии.
Мне тоже стало не по себе. "Ценный" вклад внесли братишки-белорусы в
культуру своего и братского польского народов... И все же сколько в этом
было милого: наив, доброта, легкий оттенок глуповатой и искренней
чувствительности, сердечность. В общем, говоря словами автора "Завальни" -
"благородные прахи предков". И потом, не будь этих людей, не выросли бы на
их почве ни Борщевский*, ни поэт-титан, вследствие собственной бедности
подаренный нами Польше. Пусть спят спокойно: они свое сделали.
______________
* Борщевский Ян (ок. 1790-1851) - белорусский и польский поэт и
прозаик, автор книги "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических
рассказах".
Марьян, однако, не был настроен так добродушно. Он весь кипел.
- Черт бы их побрал. Если уж на то пошло, так это они насаждали
провинциализм, а не Дунин-Марцинкевич, на которого вешали столько собак.
Сами и вешали. Да и романтизм наш дурацкий, белорусский, паршивый именно они
насадили.
- Паршивый белорусский романтизм и гофманизм мы среди них насадили, -
сказал я. - Но в чем дело? И зачем ты этой кантычкой* у меня под носом
размахиваешь?
______________
* Кантычка - католический молитвенник (бел., польск.).
- Ощущение от Ольшан, - словно осекшись, сказал он и начал читать.
Сто раз с того времени перечитывал я эту легенду, написанную наивным и
возвышенным стилем романтика (хорошие они были люди, честные до святости,
чистые до последней капли крови, не доносчики, не паршивцы!). Сто раз
вчитывался в строки, то нескладные, а то и совсем неплохие. Даже для
удобства перевел на свой язык, хотя с юности не марал рифмами бумагу. Я и
сейчас - хотя поэт из меня хуже чем никакой - передам ее вам в этом
шероховатом переводе. А тогда я слушал ее впервые.
Черный замок Ольшанский. Месяц ныряет в тучах.
Башни во мраке туманные видят сны о былом дремучем.
Слушают ветер промозглый, волчий вой на далеких равнинах,
Слушают, как на зубцах трепещут от страха осины.
У, как мертво и тихо! Тьма, как в тысяче хлябей болотных.
Тихо! Ты слышишь вдали в аркадах шаги бесплотные?
Полночью каждой такою в замке, что стынет от страха,
По галереям проходят дама с черным монахом.
Далее излагается обычный романтический сюжет, для нас уже в чем-то
детский. Благородный разбойник из некогда богатого, а теперь доведенного до
нищеты рода влюбился в жену Ольшанского князя. Та тоже любила его. Князь был
скупым и жестоким старым зверюгой - по всем канонам этого жанра.
Любовники, захватив казну, убежали из замка. Князь погнался за ними и
убил. И вот их призраки бродят под аркадами замка, чувствительно и тяжко
воздыхая и пугая стонами добрых людей.
- И что, это правда? - спросил он, окончив чтение.
- А черт их знает, этих романтиков, - ответил я. - Разве была на свете
Гражина? Или город на месте Свитязи*?
______________
* Озеро в Западной Белоруссии, воспетое Адамом Мицкевичем.
- И тебя ничто не насторожило? - Он вопросительно смотрел мне в глаза.
- Насторожило, - ответил я.
- Что?
- Единственная реальная деталь. То, что княжескую казну забрали. Как-то
этот поступок не вяжется с романтической поэтикой. А уж с их моральным
кодексом - ни боже мой!
- Пр-равильно! - хлопнул он меня по плечу. - Умница! В самом деле, для
романтика это хотя и чудовищная, но реалия. А если так, то почему бы не быть
правдой и всей легенде?
- И призракам? - поддел я.
- Призраки тоже есть на свете, - помрачнел он. - Их больше, чем мы
думаем, друже.
Марьян закурил. На этот раз по-настоящему, затягиваясь. Я тоже вытащил
из надрезанной пачки сигарету.
- Так вот, - сказал он. - Я начал проверять. И, что самое удивительное,
похоже на то, что наш поэт - автор этой самой легенды - для легенды не так
уж много и наврал. Постарайся слушать меня внимательно.
За окном лежал пустырь с редкими стеблями бурьяна.
- Ты, наверное, не знаешь, что Ольшанские были едва ли не самым богатым
родом на Беларуси. Но лишь определенное время. Приблизительно сто лет. До
этого и потом - ну, обычная магнатская фамилия, как все. Но в это столетие -
крезы, подавлявшие богатством самого короля.
- Когда же это столетие началось?
- В 1481 году. Ну-ка, что это за год?
Была у нас такая игра, от которой иной непосвященный человек посинел
бы. Так вот, внезапно, словно с обрыва в воду, задавать друг другу вопросы
вроде того, на каких языках была сделана бехистунская надпись (на
древне-персидском, эламском и вавилонском) или какого цвета были выпушки в
инженерных войсках при Николае I (красные).
- Кишка у вас тонка, дядька Марьян, - сказал я. - Это год заговора
Михаилы Олельковича, князя Слуцкого, и его двоюродного брата Федора
Бельского.
- Правильно. И других, среди которых Петро Давыдович, князь Ольшанский.
Что дальше?
- Ну-ну, хотели они великого князя Казимира смерти предать и самим
править страной. А если уж не повезет, то поднять край и держаться до
последнего. Если же и это не получится, то со всеми своими владениями от
княжества "отсести" и искать подмоги у Москвы.
- Так. И чем это кончилось?
- Заговор раскрыли. Полетели головы. Кого в темнице придушили, кого на
плаху при факелах, кого, попроще, - на кол. Сотни жертв среди тех людей, кто
хотел самостоятельности. Бельский Федор Иванович, бросив все, удрал в
Московию к Ивану III и принес ему в "приданое" "северские земли".
- А другие земли куда подевал? - иронично спросил Марьян.
- Ну, не в кармане же унес. Бросил.
- Вот оно как, - сказал Марьян. - Колья, плахи, дыба. А кто из главных
заговорщиков остался?
- Валяй.
- Ольшанский остался. Один из всех. Единственный, с кем ничего не
случилось. Наоборот, осел в поместьях прочно, как никогда. Почему?
- Сильный был. Боялись. Род княжеской крови, и с королями повязан не
раз.
- Чепуха. Не поглядели бы.
Он бросил книжку на стол. Мы молча сидели друг против друга. Наконец
Марьян провел рукой по лицу, словно умылся.
- И как раз с этого года начинается невиданное, просто даже
предосудительное, фантастическое обогащение рода. Тысяча и одна ночь.
Сокровища Голконды и Эльдорадо. Дарят города. Встречая великого князя,
одевают в золото тысячи шляхтичей и крестьян. Листовым золотом покрывают
замковые крыши. Словом, налицо все, на что способен был человек того
времени, неожиданно разбогатев.
- Внешне вроде бы культурно, а изнутри...
- Дикарство? - спросил Марьян. - Да нет. Это тоньше. Смекни:
только-только достигли настоящей власти. Над душами, над телами, над
государством, наконец. С Всеславом-Чародеем* не очень-то поспорил бы, не
шибко побрыкался. А тут... Ну и отказали сдерживающие центры. Отказали, как
у всех свежеиспеченных властителей над всем, хотя многие из этих, свежих, и
столетиями свой род тащили, но на правах... ну, дружинников, что ли. И вот
началось: внешне гуманисты, внешне утонченные, а изнутри - тигр прет.
______________
* Всеслав Брячиславич (?-1101), прозванный Чародеем, князь Полоцкий
(1044-1101). Стремился расширить пределы княжества, неутомимо отстаивал его
самостоятельность. Личность решительная, властная, мудрая и энергичная.
Упоминается в некоторых былинах. Один из героев "Слова о полку Игореве".
- Тут ты, по-моему, ошибаешься, - сказал я. - Вспомни Острожских,
Миколу Радзивилла, Сапегу Льва. Настоящие, образованные, воспитанные люди,
пусть себе и тоже со страстями.
- Это внешний разлад, - сказал Марьян. - Конечно, в массе это не двор
Чингисхана и не опричный двор. Все же на глазах у Европы, начала гласности,
начала демократии, пускай себе шляхетской. Nobless oblige*. Но ломки хребтов
и здесь хватало. Время такое.
______________
* Положение обязывает (франц.).
- "Время всегда таково, каковы в нем живущие люди", - процитировал я
кого-то. - Но ты все же гони сюжет.
- Ну и вот. Вдруг через каких-то сто лет всему этому роскошеству -
крес*! Довольно через меру кутить, довольно листового золота, довольно
собственных полков в парче! Обычный, не самый богатый род. В чем дело?
______________
* Крэс - конец, межа (бел., польск.).
- Этого мы никогда не узнаем, - сказал я. - Мало ли что там могло
произойти? Ну, скажем, во-первых, - этот Петро Давыдович, хотя и сильный,
однако побаивался, что припомнят участие в заговоре, и решил то богатство
растранжирить, пожить на всю катушку. И наследники транжирили. А когда все
промотали, то и успокоились.
- Т-так, - сказал он. - Ты знаешь, что это за знаки и что они
обозначают?
На клочке бумаги он вывел следующее:
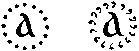 - Ну, ты меня ребенком считаешь. Это числовые знаки букв. Первая -
легион, или сто тысяч, вторая - леодор, или миллион.
- Ну, а это?
И он написал еще и такое:
- Ну, ты меня ребенком считаешь. Это числовые знаки букв. Первая -
легион, или сто тысяч, вторая - леодор, или миллион.
- Ну, а это?
И он написал еще и такое:
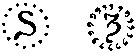 - Ну, шестьсот тысяч, ну, семь миллионов.
- Так вот, ответь мне теперь, дорогой ты мой шалопай, лоботряс и
вертопрах Антон Глебович, каким таким образом мог человек, даже
могущественный, наворотить за полгода состояние в шестьсот тысяч золотых да
на семь миллионов драгоценными камнями - это по тем временам, когда и в
самом деле "телушка-полушка" была, - и каким образом он, даже если бы ел то
золото и его наследники ели, мог за каких-то сто тридцать лет расточить,
промотать, растранжирить, струбить, ухлопать такой капитал? А ведь они,
кроме того, ежегодно имели фантастические доходы.
- Отвечаю на первую половину вопроса: возможно, знал о казне
заговорщиков и прибрал ее к рукам.
- А может, выдал? - спросил Марьян.
- Такое о людях брякать бездоказательно нельзя, если даже они и гниют
уже в земле триста лет. На то мы и историки.
- Угм. "История, та самая, которая ни столько, ни полстолько не
соврет". Сгнил он, только не в земле, а в саркофаге Ольшанского костела. Там
на саркофагах статуи каменные лежат. Такая, брат, лежит протобестия, с такой
святой да божьей улыбочкой. Сам увидишь.
- Почему это я вдруг "увижу"?
- Если захочешь - увидишь. Ну вот, а что касается исчезновения -
вспомни балладу этого... менестреля застенкового*.
______________
* Засценак - усадьба, мелкое поместье, деревня, населенная мелкой
шляхтой. В другом значении - захолустье (бел., польск.).
- Выдумка.
- У многих выдумок есть запах правды. Я искал. Искал по хроникам,
воспоминаниям, документам. Сейчас не стоит их называть - вот список.
- И докопался?
- Докопался. Тебе говорит что-нибудь такая фамилия - Валюжинич?
- Валюж... Ва... Ну, если это те, то Валюжиничи - древний род, еще от
"своих" князей, тех, что "до Гедимина". Имели владения на Полоцкой земле,
возле Минска и на северо-запад от него. Но к тому времени все реже
вспоминаются в универсалах и хрониках, видимо, оскудели, потеряли вес. В
общем-то, обычная судьба. В семнадцатом столетии исчезают.
- Молоток, - с блатным акцентом сказал Марьян. - Кувалдой станешь. Ну,
а последний всплеск рода?
- Погоди, - сказал я. - Гомшанское восстание, что ли?
- Ну-ну, - подначивал он.
- Гремислав Андреевич, кажется, Валюжинич. 1611 год. Знаменитый "удар в
спину"? Черт, никак я этих явлений не связывал.
- А между тем, Гомшаны от Ольшан - не расстояние. Да, Валюжинич. Да,
две недели беспрерывных боев и потом еще с год лесной войны. И на крюк
подвешенные, и на кол посаженные. Да, знаменитый "удар в спину", о котором
мы так мало знаем.
- Невыгодно было писать. "Предатели". И в такой момент! Интервенция,
война. Последующие события, наверное, и заслонили все... Сюжет, Марьяне!
- Невыносимый ты, - возмутился он.
- Сгораю от любопытства. Не тяни.
- Ну так вот. И подсчитал я, мой дорогой, по писцовым книгам и актам,
что за эти годы, учитывая и доходы с поместий, потомки, несмотря на все
"сумасбродства", не могли истратить более трети приобретенных сокровищ. Это
при самом что ни на есть страшном, "радзивилловском" мотовстве. И вот в год
бунта Валюжинича в Ольшанах княжит Витовт Федорович, пятидесяти семи лет, а
жена у него - Ганна-Гордислава Ольшанская, двадцати пяти лет, а в девичестве
княжна Мезецкая. И княгиню эту нещадно упрекает в своем послании бискуп*
Кладненский Героним за забвение княжеской и женской чести, а главным образом
за то, что враги княжества великого пользуются для тайных с нею встреч
монашеской одеждой.
______________
* Бiскуп - духовное лицо, имеющее высшую степень священства в
христианской церкви (бел., польск.).
- Действительно, ужас какой, - сказал я. - "Дама с черным монахом".
- И паршивый белорусский романтизм, - сказал Марьян. - Вот, представь
себе такую мою гипотезу. Все разбито. Спасения нет. Повсюду рыскают вижи -
соглядатаи и шпики. Сподвижники на кольях хрипят. И во всем с самого начала
повинен князь Витовт Федорович Ольшанский. Ему на откуп было отдано
Кладненское староство. Он греб бессовестно и неистово, много денег содрал с
него на свою корысть. По его вине вешают людей. А жена, как и в балладе, -
ангел. Что, не могли они ту казну, сокровища те, захватить и убежать? Чтобы
хоть часть награбленного возвратить жертвам?
- Гипотезы, - сказал я. - Откуда тот поэт мог знать?
- А ты подумал, сколько архивов, семейных преданий, слухов, легенд,
наконец, могло исчезнуть за сто с лишним лет? С войнами, да пожарами, да
революциями? Наверное, что-то знал.
Он опять закурил. Не нужно было ему это делать.
- И вот в 1612-м, - он выпустил кольцо дыма, - этот человек, этот
"монах", исчезает. Самое любопытное, что исчезает и она. Или бежали, или
были убиты - кто знает? Скорее всего - бежали. Имеется свидетельство
копного* судьи Станкевича, что погоня княжеская была, потому что те будто бы
взяли Ольшанские сокровища, но он, Станкевич, властью своей погоню ту
прекратил и гонити, под угрозой смертной кары от короля, не позволил. Может,
какой-то другой княжеский загон догнал беглецов и убил? Нет. В том же копном
акте имеется клятва Витовта Ольшанского на евангелии, что не убивал и нет
крови на его руках. И что после его последней встречи с ними, когда
выследил, как убегали они из Ольшан, такие-то и такие свидетели знают, что
они были живы еще спустя две недели... А между тем их следы исчезли. Ни в
каком городе аж до Вильно, Варшавы и Киева следов их нет.
______________
* Представитель государственной администрации, следившей, чтобы копа,
суд копный (суд деревенской или городской общины в средневековой Белоруссии)
не нарушали копных обычаев и права (древний бел. яз.).
- Ну, мало ли что! Тихо жили, вот и нет. Хотя попробуй проживи тихо с
таким богатством.
Вдруг меня осенило.
- Погоди, а зачем там был копный судья Станкевич, человек из рода
белорусских шерлок-холмсов, потомственный сыщик? Пускай он себе
государственный муж, сыск для него - тоже дело далеко не второго порядка. Но
ведь в шестнадцатом-семнадцатом столетиях почти ни одного шумного дела не
было, чтобы его кто-то из Станкевичей не распутывал. Вплоть до самого
нашумевшего Дурыничского убийства*.
______________
* Убийство (14 октября 1606 г.) Мариной Карлович, урожденной
Достоевской (из рода предков великого писателя; главное владение - Достоево
под Пинском) мужа, покушение на жизнь пасынка и составление фальшивого
завещания. Суд по следам этих событий (судья - староста минский Андрей
Станкевич) начался 6 марта 1607 года.
- То-то же и оно! Как раз во время исчезновения беглецов король
назначил Станкевича на ревизию имений и прибылей князя Ольшанского.
- И...
- И ревизия эта закончилась ничем. Все сокровища исчезли. Исчезли и те,
кто забрал их. Исчезли все расчетные книги, документы, даже родовые грамоты.
Все исчезло. Племянникам князя Витовта пришлось их заново выправлять. И
оттого над ними позже крепко смеялись и, когда хотели поиздеваться,
высказывали сомнение: дескать, так ли уж на самом деле древен их род, не
вписали ли они себя сами в разные там привилеи и книги. А у них и богатства
дядькиного, сказочного, не осталось, чтобы хоть роскошью заткнуть рты,
замазать глаза.
- Племянники? Почему? И неужто следствие не докопалось до истины?
- Нет, не докопалось. Да, племянники. Потому что через год после начала
следствия князь Витовт Ольшанский нежданно, скорым чином умре.
Мы замолчали. Ненастный, слякотный день за окном все больше тускнел.
- Но почему следствие? - спросил я.
- Вот и я думаю, почему.
- Всплыли события столетней давности?
- Кого они интересовали? Даже если и было какое-то преступление, то что
- отвечать внуку за деда? Через сто лет?
- Могли польститься на деньги. Государственная казна была пуста.
- Чепуха. Скорее бы новую подать наложили - и все.
- А может, на откупе князь проворовался?
- Тоже никого не интересовало. Уплатил сразу всю сумму, получил
староство в аренду, а там кому какое дело, даже если бы ты трижды столько
содрал с жителей?
- Может, дела восстания? Связь этой... урожденной Мезецкой с главарем?
- Дело касалось Ольшанского. Мезецких трогать бы не стали. В 1507 году
какая-то прабабка нашей героини была "сердцем и душой" великого князя
Жигимонта. И с того времени - приближенные к королям, очень доверенные люди.
- Так, может, расследовали исчезновение княгини Ганны?
- Позже она исчезла. Следствие уже с месяц шло. Видишь, сколько версий:
старинный заговор - откуп - события восстания и то, как они отразились в
семье князя.
- А возможно, и то, и другое, и третье.
- Может быть. Вот и занялся бы. Займись, а? Вот тебе и тема для
очередного расследования.
Святая Инесса смотрела на меня, умоляюще сложив руки.
Я не мог отказать ей.
- Подумаю, - сказал я. - Однако, послушай, Марьян, какая может быть
связь между двумя событиями тех лет, да еще разделенных целым столетием,
этой книгой из Ольшан, давно заброшенной, никому не нужной, кроме музея, да
таких, как мы с тобой, и тем, что какие-то барыги от бизнеса на старине
звонят тебе, ходят под окнами и так далее. Может, под окнами совсем не те,
что звонили.
- Может. Но тревога такая, что, кажется, вот-вот умру. Какое-то
предчувствие. Вот говорит сердце, и все.
- Говорит, потому что больное. У тебя разве не было прежде таких
приступов беспричинного ужаса?
- Это не то. Это не от сердца. Это глубже. Словно у собак перед
пожаром.
- Обратись в милицию, как я тебе советовал.
- Чтоб приняли за сумасшедшего?
- Тогда успокойся. Довольно себя истязать.
Я поднялся. Надо было идти домой. И тогда Пташинский как-то внутренне
засуетился. Начал нервно трепать темные волосы. Глаза стали беспомощными.
- Знаешь что...
Он взял старую книгу и протянул мне.
- Знаешь... Возьми ты ее с собой... Они...
- Кто они?
- Не знаю. Они... Они не подумают, что я такую вещь мог выпустить из
дома. Мне спокойнее будет. Хорошенько спрячь. Я буду иногда заходить.
Исследуй ее, потом мыслями обменяемся.
- А над чем же будешь думать ты?
- У меня хорошая фотокопия. Я, чтобы не трепать книгу, работаю по ней.
К тому же я в палеографии разбираюсь хуже тебя. А ты - погляди. В чем там
дело? Возьми вот портфель. Можешь оставить у себя.
Портфель был огромный. Даже эта большая книга скрылась в нем, и еще
осталось свободное место.
Я собрался было идти один, но увидел, что Пташинский натягивает пальто.
Когда он брал на поводок собак, я было возмутился.
- Это еще зачем?
- Молчи, Антон. Надо.
Он дал мне еще повод удивиться. Заскочил в ближайший "Гастроном".
Собаки, конечно же, остались со мной, люто зыркали вокруг. Я думал, что он
вынесет бутылку. А он вынес три. Одну, как и положено, с вином, а две... с
кефиром.
- Марьян, - сказал я. - Ведь я его терпеть не могу. Это же какая-то
глупая выдумка. Мне же молоко бабка носит, я же сам его заквашиваю, делаю
наше, деревенское. Мне от этой кефирной солодухи блевать хочется.
- Можешь вылить, - сказал он, засовывая бутылки в портфель так, чтоб
были видны горлышки. - Кислое молоко! Устойчивые привычки старого кавалера.
- Маскарад? - с иронией спросил я. - Совсем ты рехнулся, Марьян, в
детство впадаешь, сукин сын.
- Ладно, - проворчал он, беря поводки. - Ты иди себе. Иди. Топай. Я
провожу.
Его тревога, как это ни странно, передалась и мне. Понимал, что все это
вздор, а не тревожиться не мог.
...У подъезда Пахольчик высунулся из своего киоска:
- Бож-же ж ты мой, вот это собаченции! Звери! А что б это могла быть за
порода такая - не сделаете ли одолжение объяснить?!
- Тигровые доги, - буркнул Марьян.
- Ай-я-я-яй, чего только не бывает! И тигра и собака! А скажите мне,
как это их повязывают? Ведь тигра, хотя и большой, а кот. Как же он - с
собакой?
- Силком, - сказал Марьян.
- Дрессируют, - добавил я, но тут мне стало жаль старика. - Это просто
масть у них такая, тигровая. Мы шутим, дядька Герард.
- Ну, бог с вами. Шутить не грех. Гляжу, прогулялись вы сегодня,
румянец здоровый. И хорошо, что кефир на ночь пьете. Здорово это - кефир.
- Еще бы, - сказал я. - А с вином и совсем недурно.
Мы вошли в подъезд.
�ГЛАВА IV�
Про женщину из прошлого,
абелей в отставке
и о том, как чтение евангелия
не принесло никакой пользы, кроме моральной
Когда Пташинский ушел, я вспомнил, что уже три дня не могу дописать
батьке письмо. Совсем закрутился с этой книгой. И письмо это несчастное уже
давно было по сути написано, но тетка Марина всегда обижалась, если я не
приписывал лично для нее хотя бы несколько строк. Человек она пожилой, с
капризами.
Я решил, наконец, свалить с плеч эту обязанность. Достал еще один лист
и, помолясь богу, чтоб только не обидеть неосторожным словом, начал писать:
"Мариночка, тетенька! Ты же ведь знаешь, как мне тяжелехонько писать,
какой я бездельник. Иное дело звонить, но я звонил и не дозвонился. Уже
потом узнал о Койдановской свадьбе и что вы там были. Загрустил я по тебе и
отцу. Если он забыл все слова, кроме "запсели они, сидя в городе" и
"приезжай, половим рыбу", то хоть ты возьми лахi пад пахi* и приезжай ко
мне. Как получишь письмо, так и выезжай, чтобы назавтра я тебя видел здесь.
Поговорим, в театр на новую пьесу сходим. Страшно интересно! А то боюсь,
вдруг случится что, пошлют куда-нибудь и тогда до лета не жди. Правда,
возьми и прикати. У тебя ведь теперь есть свободное время. Заодно я надумал
купить вам кое-что. Приезжай, скажем, 12-го в 11 часов поездом. И не
откладывай. Встречу на машине. В самом деле, за чем остановка? Дай
телеграмму, если приедешь позже. А то у вас с утра работа, и днем, и вечером
работа. А я вас знаю.
______________
* Вещи под мышку (бел.).
Дела мои с новой книгой пошли на лад. И так все вдруг получилось!
Помогли рецензии, дай бог здоровья Петровскому и Клецкину. Так что,
позвольте доложить, целую тебя уветливо и умильно и остаюсь
твой почтительный благоговейный племянник
Антон".
Ф-фу-у! Вот ведь и люблю я тетку, и беседовать с нею одно наслаждение,
а написать слова, что сказал бы устно, - зарез.
Я отложил письмо, погасил настольную лампу. Снова перелистал книгу
Пташинского и вдруг решил, что ее не стоит оставлять на виду. Словно
подозрительность Марьяна заразила и меня. Поэтому и взял тяжелый том и понес
к секретеру.
У меня мало старых вещей, не то что у Марьяна, но даже Марьян завидует
моему секретеру. А я горжусь им. Самое начало XIX столетия. Варьированный
местным крепостным мастером до неузнаваемости ампир. И эти вариации сделали
ампир, если это только возможно, еще более благородным. Строгие формы,
продуманность каждой детали, рассчитанное удобство и красота. Черное дерево
и самшит, скупо инкрустированные перламутром. И как только откинешь доску -
встает перед глазами радуга: бабочки над стилизованными полевыми цветами.
Сколько я намучился, пока чуть ли не из груды лома восстановил его.
Но главное не это. Главное - тайник, который я сам случайно обнаружил
только около года назад. Нажимаешь на пластинку возле замка, подаешь ее
вперед, а потом влево, и отодвигается в сторону задняя стенка отделения для
бумаг. А если при этом нажать на среднюю бабочку - откроются боковые
тайники, очень вместительные.
Там можно прятать письма, документы и все такое прочее. Туда я сейчас
положу книгу Марьяна. Не нужно, чтобы ее видело больше людей, чем это
необходимо. Ну и потом: у меня "увели" довольно много книг. От "Сатира"
Кохановского до "Вина из одуванчиков" Бредбери. Увели даже белорусский том
"Живописной России", несмотря на гигантские размеры. Если кто-нибудь
"одолжит" и это - будет плохо. Как тогда смотреть в глаза Пташинскому и у
кого одолжить глаза для себя? У собаки, что ли? А таких охотников на
"позаимствование без срока" у нас все больше и больше. И даже суда на них
нет, гадов.
Я спрятал книгу, закрыл тайник. И хорошо сделал. Потому что сразу
залился дверной звонок и появилась "моя прежняя любовь" Зоя Перервенко
собственной персоной. Явилась после того, как два месяца носа не показывала,
и я уже думал, что никогда не зайдет.
Пока я ставил на столик бутылку "Немеш кадара", яблоки и еще то-се,
пока включал нижний свет и гасил верхний, мы обменялись десятком стандартных
фраз: как жизнь, что там и чего, как со здоровьем (это в ее двадцать
восемь!). И лишь после первого бокала я сказал:
- А я думал - все.
- Оно так и есть - все. Незачем дольше тянуть, если уж ты такой
честный.
Честный не честный, но, когда в первый вечер нашего знакомства вся
компания ушла от меня, а она осталась до утра и потом оставалась почти
каждый вечер на протяжении четырех месяцев, я тогда, видит бог, не знал и
даже подумать не мог, что она замужем. Наоборот, из такого ее поведения
бесспорно вытекало, что она одна. Черт бы побрал этих мужей, что ездят на
семь месяцев в экспедиции, да еще туда, куда даже несчастный Макар не гонял
своих не менее несчастных телят.
Все всплыло наверх только тогда, когда я предложил ей поехать на юг, а
потом подумать и о чем-то "более серьезном". Тут-то она мне и поведала обо
всем. При этом, нисколько не смущаясь, предложила, как лучший вариант этого
"серьезного", что будет иногда заходить и после возвращения мужа. Я только
крякнул. И, может быть, даже согласился бы, потому что успел очень
привязаться к ней. Но это было невозможно. Ибо самым большим свинством во
всей этой истории было то, что я, оказывается, прекрасно знал ее мужа, Костю
Красовского. А он был чудесный парень, верный друг своим друзьям, широкий,
независимый, душа всякой компании, любитель погулять, честнейший палеонтолог
и добрейшей души человек. Такого обидеть - тотчас надо повеситься.
И я стал отдаляться, хотя, ей-богу, если не врать, это мне дорого
стоило.
Яркая блондинка, глаза густо-синие и холодные, поразительно изогнутые
сочные губы, стройная шея, изящные руки, безупречное тело - от высокой груди
до ног, которые уже сами по себе были как мечта каждого мужчины.
Черт бы побрал эти разные фамилии!
Черт бы побрал эту невозможность знать, замужем женщина или нет! Черт
бы взял в этом смысле всех не литовцев! Как было бы хорошо. Знакомишься.
"Красаускайте", - ну, значит, дерзай, голубчик, если она не против.
"Красаускене", - ну и топай, дорогой, прочь, ад брамы ды прама*, здесь
участок застолблен, и если получил "облизня", то иди и облизывайся, не с
твоим еловым рылом здесь мед пить.
______________
* От ворот поворот (бел.).
Во всей этой истории меня утешило только то, что она, заметив мое
отдаление, сбросила - наверное, по глупости - маску доброжелательной,
преданной, покорной женщины. И я, наконец, рассмотрел в ней безграничное
желание жить, только получая блага и ничем не платя взамен жизни и людям,
неудержимую жажду всяких там утех и наслаждений, что бы там ни творилось
вокруг, как бы плохо ни было окружающим.
Но разве она одна такая из женского племени? Это еще не причина, чтобы
перестать любить. Иногда наоборот, таких еще больше любят. И страдают, как
страдал я.
Только спустя какое-то время мой друг Алесь Гудас, тот, что подавал
мужикам в окно стакан, увидев, что я немного протрезвел, сказал:
"Не с тобой, брат, первым она этого бедного Красовского обманывает.
Такой хлопец, такой золотой парень - и на тебе!"
"Почему же ты этого раньше не сказал?"
"А ты не поверил бы".
"И то правда".
"Не поверил бы". "Влюбилась женщина". "Ну и что же, что замужем?"
"Бывает". "Это не свинство, а несчастье".
"О-ох, иди ты, Алесь, к дьяволу!"
"И вообще из-за нее Косте одни неприятности. Да и что спросить с
человека, у которого лучшие подруги маникюрщицы и продавщицы универмагов?"
"Ты что-нибудь имеешь против продавщиц?"
"Ничего. Даже люблю. Но для бесед выбираю темы не только про мохеровые
кофты".
"Знаю я, какие ты темы выбираешь".
Посмеялись. И вот так, понемногу, очень болезненно, началось мое
излечение. Но иногда она все же заходила. И всякий раз я изо всех сил
старался не заводить дело слишком далеко. Как теперь.
- Я тогда решила разводиться, - вдруг сказала она. - А потом подумала,
что все равно ты мне не простишь этого обмана. А если так, то в чем виноват
Костя? Любит меня, прощает многое. Останусь да попробую искупить вину. Чего
уж! Нагрешила, так искупай. А со всем этим надо кончать. Буду так доживать,
да и чего еще надо. Звезд с неба он, конечно, не хватает, но добрый,
честный, простой. Пусть будет так. Пора смириться, Зоенька.
Сказала как-то так тихо и грустно, что душу мою перевернула.
- Не надо. Чего уж там. Я больше тебя виноват.
- В чем твоя вина? Нет, я своего никому не отдам... Ни хорошего, ни
позорного.
Все же, несмотря на все неприятные черты характера, были в ней и
внутренняя совесть, и ум, и боль далеко не счастливого человека. Мне было
жаль ее. Наверное, потому, что немного любил.
- И ты не мучайся. Пусть будет все, как есть. Разве нам было плохо все
эти месяцы? - спросила она.
- Хорошо было, - принимая все, сказал я.
- Ну вот, значит, нам дано было счастье. Будет что вспомнить. Разве
мало? Другие и на понюх такого не имеют. Ну... ну... что ты?..
Погладила меня по голове. Это прикосновение маленькой руки заставляло
меня в свое время сходить с ума от влечения к ней. Теперь оно отозвалось
лишь болью.
- Вот видишь, значит, и в самом деле конец. Ладно. Ты не будешь против,
если я иногда буду все же заходить?
- Почему это я буду против?
- Ты не бойся. Просто так. Отогреться.
- О-ох, что же это мы все-таки натворили?!
Она положила одну свою красивую ногу на другую, пригубила вина. Лицо ее
при свете торшера было золотым, мягким и очень грустным.
- Я раньше, чем ты, забыла, что ни на что не имею права. И что тебе
было думать о моей репутации? Ты же ничего не знал. И потом, можно подумать,
что ты первый пришел ко мне и остался. Змий-искуситель. Я сама этого хотела.
И это меня к тебе тянуло. Я и сделала, чего желала и что могла.
Честное слово, сердце у меня разрывалось от этих слов. Но что я мог?
- Ну хорошо, - глухо сказала она. - Хватит об этом... Ты где был
сегодня?
Явно искала нейтральную тему.
- У Марьяна, - сказал я.
Зоя немного знала его: раза три-четыре встречались у меня.
- Он что, по-прежнему чудит с этими деревянными куклами?
- Не надо так, - сказал я. - Он делает большое дело.
- Да я разве против? Как его жена?
- Плохо с ней. Ну, это их дело. Хуже то, что он из-за нее страдает. И,
наверное, поэтому сердце снова дурить начало. Страхи разные, как всегда у
сердечников. Подозрения. А от кофе и табака никак не откажется...
- В больницу ему надо лечь. Жаль, если с хорошим человеком что-нибудь
случится. Сволочь какая-нибудь живет, а вот Сережа Певень, бедняга, такой
молодой, талантливый, только что должность такую хорошую получил, так легко
с ним людям было бы жить - и на тебе, рак.
- Это беда, - сказал я. - Великая беда! Но что поделаешь, если на долю
нашего поколения столько выпало.
Она вдруг решительно поднялась.
- Ну, нечего засиживаться. - Поколебалась немного - и оставила "Немеш
кадар". - Приторный.
- Ты ведь любишь полусладкие.
- Наши люблю. А может, мне просто в эти дни все приторно? Слушай,
Антось, а что это мы в первый наш вечер пили, не помнишь?
- Помню. Ты была в голубом платье. И бусы янтарные на шее. И губы не
накрашенные. А пили мы тогда "Хванчкару".
- Пожалуй, нигде ее теперь нет. А хорошо было бы... по последнему
бокалу... Так, как тогда - по первому. Ведь это же последний, Антоша...
Последний. И ничего тут не поделаешь. И вот стол твой с чистой бумагой, и
этот подсвечник, и лампа. И всего этого я, наверное, уже не увижу, потому
что не знаю, найду ли силы заглядывать к тебе.
Слышать это было невыносимо, и потому я, чтобы отдалить неминуемую
последнюю минуту, тихо сказал:
- Почему не достанешь? Вчера в магазине была "Хванчкара". Чудеса
какие-то. Видимо, что-то большое в лесу сдохло... Большой какой-то зверь
подох... Разве что разобрали? Давай сбегаю.
- Сбегай, - сказала она глухо. - Окончим тем, с чего начали. Только не
задерживайся там долго. Мне страшно будет тут... одной.
Когда я уже надевал пальто, она спросила:
- Деньги у тебя хоть есть? А то возьми...
- Есть.
Я быстро бежал в магазин и проклинал себя всеми возможными словами.
...Когда я возвратился, она стояла у окна и смотрела в темноту.
Обернулась ко мне и вытерла глаза.
- Я, глупая, погнала тебя, не спросив, хочешь ли этого ты.
- Не хотел бы - не пошел.
- Тогда налей.
Мы сидели и перебрасывались малозначительными словами, но у меня было
такое состояние, словно я на собственных похоронах или на похоронах чего-то
дьявольски важного. Никогда в жизни мне еще не было так тяжело и скорбно.
Когда мы уже одевались в прихожей, она вдруг припала к моей груди.
- О-ох, Антон... Что я наделала! Почему с самого начала не сказала
правды? Зачем обманула?
- Слушай, - не выдержал я, - оставайся. Навсегда. Я не могу больше.
Глаза у нее была влажные, невыплаканные.
- Нет, - сказала она, - не имею права. Да и зачем? Назад не вернешь. Но
я все же, может, когда-нибудь зайду к тебе погреться. И только.
В эту минуту я снова любил ее, может, больше, чем прежде. Мое сердце
мучительно тянулось к ней. Но я понял: и в самом деле - все. Она так решила.
...Мокрый снег лепил в наши лица, когда мы вышли на бульвар. Она
поймала такси, но долго стояла возле него и смотрела мне в глаза.
- Ну, прощай, - наконец сказала она, словно от себя оторвала что-то. -
Раньше в таких случаях надо было перекрестить. А теперь...
Она прижалась к моим губам холодными мокрыми губами и, когда они
потеплели, с трудом оторвалась.
- Прощай. Бог с тобой. Прости.
Хлопнула дверца такси. Последний раз взметнулась за стеклом рука в
белой перчатке. Потом машина рванулась с места, окатив мои ноги мокрым бурым
снегом.
...Все во мне плакало, и не столько от любви, сколько от утраты.
Неизвестно почему я зашел в кафе "Космос", выпил там у стойки бокал коньяка,
потом пошел шататься по улицам, нащупал в кармане измятый конверт с письмом
к отцу и опустил его в ящик, долго сидел на мокрой скамейке и бесцельно
смотрел на радужные пятна фонарей в черных обледенелых ветвях. Затем снова
выпил у стойки. На этот раз вина.
...Пуще смерти было возвращаться в пустую квартиру, еще пахнущую ею. И
потому я, сам не зная как, нажал звонок на двери Хилинского.
Он открыл мне, окинул взглядом и, по-видимому, малость испугался.
- Заходи, - сказал он. - Чего-нибудь выпьешь? Ну, конечно, выпьешь.
Снимай пальто. Я сейчас.
Как Марьяна выживали из квартиры иконы, так полковника (а может, он и
не полковник был, а в самом деле Абель в отставке, черт его знает и черт его
завяжет человечьи языки) выживали из квартиры книги. Лишь два небольших
простенка были свободны от них. Перед одним стоял на столике эпидиаскоп
(Хилинский увлекался снимками на слайды, добывал каким-то чудом немецкую
пленку "Орвоколор", и этот простенок использовал, чтоб демонстрировать
самому себе снятое). Сейчас у столика с эпидиаскопом лежали пластмассовые
рамки, ножницы, змеями извивались пленки. Все прямо на полу, на ковре.
На втором простенке, над тахтой, висел портрет в овальной раме,
писанный в манере старых мастеров. Даже лаком покрытый. Портрет был прорван
у нижнего закругления рамы: рваная рана была кем-то грубовато зашита и
по-любительски закрашена. На портрете - женщина в черном с красным платье. И
сама смуглая, южного типа.
Всякий раз, когда я заходил к Хилинскому, меня удивлял этот портрет.
Никогда еще мне не доводилось видеть такое значительное женское лицо. И
такое красивое одновременно. Глаз не оторвать. И полуоткрытый рот, и гордый
нос, и лоб, и вся эта нежно-горделивая, совершенная стать. О, господи мой
боже!
Хилинский прикатил столик на колесах, перегрузил с него на другой,
круглый, стеклянный, начатую бутылку виньяка, лимон, спрессованный в колбасу
грузинский инжир.
- Ну, чтоб сгинула беда.
Выпили.
- Да что с тобой наконец, парень? Ректора к трем чертям послал? А?
- Нет. А стоило бы.
- Калеку избил? В дочку архиерея влюбился?
- Какая же у архиерея дочка?
- Ну что еще? Троцкого на лекции случайно процитировал?
Я молчал.
- Ага. Случайно зашел в однотипную с твоей квартиру, молока попил и
думая, что дома, провел время с чужой женой, как со своей. Света не хотел
включать. А все - однотипное.
- Да, - сказал я.
И тут он понял, что я не шучу. А я, сам не зная почему, рассказал ему
всю эту мою историю. Конечно, без имен. Конечно, изменив все, что надо было
изменить.
- Досадно, - сказал он. - Но что поделаешь? В дальнейшем, прежде чем
кидаться башкой в омут, узнай обо всем. Страстность эта наша глупая,
белорусская, губит нас. А ты, если уж так случилось, предложил ей пойти с
тобой?
Я рассказал, как все было.
- Возврата нет, Адам Петрович. Мучает, изводит она себя за обман. Но
что делать?
- Молчать надо, хлопец, - после паузы промолвил он. - Возможно, там еще
и склеится, если молчать, если никто никому ничего. А ты - что же, отстрадай
свое. С бедой переспать надо. И не одну ночь. Тогда она тебе обязательно
изменит с кем-нибудь другим. Только тогда станет легче.
Я не узнавал его. Обычно так и сыпались из него присказки, часто
фривольные, а тут передо мной сидел человек, углубленный в мое горе, даже, я
сказал бы, суровый человек.
Вид у меня был, наверное, безутешный, потому что Адам сморщился почти
жалобно, вздохнул и налил еще по рюмке.
- Давай за нее. Все же благородства в ее душе, наверное, больше. Вот за
это.
Он наблюдал за мной.
- Да не убивайся ты так. Возьми вот, покури трубку. Хотя у вас кишка
тонка. Все на сигаретках. Импортных.
У меня перехватило дыхание.
- Ну перестань ты. Перестань! Это еще, Антон, не горе.
И, видимо, что-то решив, вздохнул.
- А, чтоб тебя! Ну, ладно. Искренность за искренность. Видишь портрет?
- Вижу.
- И никогда не спросил, кто это. Деликатный. Да я, может, тогда и сам
тебе не ответил бы. А теперь скажу. Уж очень ты плох. Убиваешься сверх
всякой меры. А меры человеческому несчастью не знаешь.
Выпил.
- Моя жена. По профессии была актриса.
Его сухое лицо словно обтянулось кожей на скулах и обвисло книзу. И
сразу обрезались глаза под тяжело нависшими веками.
- Как считаешь, кто она по национальности?
- Не разбираюсь я, Адам Петрович, в южных типах. Белоруса за версту
отличу, а тут судить боюсь.
- А все же...
- Грузинка? Армянка? Таджичка?
- Да нет.
- Молдаванка? Еврейка?
- Еще хуже, - горько сказал он. - Цыганка...
Затянулся.
- Вот в этом и была ее главная вина. А по вине и кара. И еще хорошо,
если первый попавшийся по дороге яр. Короче были страдания. А я в то время
был очень далеко... Не имел возможности вывезти, помочь... Не мог, не имел
права даже возопить, что вот вы самого дорогого мне человека, сволочи, в
лагерях, в оспе этой на всей земле, замучили. И сын потерялся где-то... Имею
лишь тень весточки: отбирали детей нордического типа. А он беленький, в
меня. Ты не смотри, что я теперь седой... Был я белый.
Искоса взглянул на портрет.
- Какая была Грушенька в "Очарованном страннике", какая Маша в "Живом
трупе"! Пела - плакали люди. И за это - яр. За все - яр.
Отложил трубку.
- С этим... притерпелся не притерпелся, а так, притупилось трошки... А
вот с сыном... Попал ли он обратно, в наш детский дом? А может, и... там. И
не исключено, что какому-то нашему такому... Грибку доведется
перестреливаться с ним... Вот так.
Взял рюмку с золотистым напитком.
- Я тебе это не затем рассказал, чтобы ты меня пожалел. Я затем, чтобы
ты себя пожалел. То, что произошло с тобой, не самое страшное. Не самое
последнее.
Благодарность моя к нему была такая большая, сочувствие такое
невыносимое (в самом деле, чего стоила моя горечь по сравнению с его!), что
я понял: надо переводить разговор на другую тему. Однако эта другая тема
никак не приходила в голову. Поэтому я рассказал кое-что из страхов
Пташинского.
- Ну, это не загадка, - сказал Хилинский. - Отчасти виной тому эти
типы, обычные барыги, бз... ы, которым с законом связываться никак не с
руки. А больше всего - болезнь. Это из-за сердца.
- И я так думаю.
В этот момент зазвонил телефон. Хилинский вышел в спальню, прикрыл за
собой дверь, но слышно ему, наверное, было плохо, поэтому он вынужден был
говорить громче, чем обычно, и я кое-что услышал.
- Иконы? В связи с этим? А, черт бы их побрал с этими девизами*!
______________
* Вексель, чек и т.п., выписанный в иностранной валюте и подлежащий
оплате за границей (франц.).
"Специально не говорит "валюта", а "девизы". Думает, что слова не знаю.
Белыми нитками шьешь, Адам Петрович".
- Заразы. И оружие?.. Плохо слышно!.. Ясно. В час тридцать? Хорошо.
Буду.
Он снова вышел ко мне.
- Причастился ты, парень, к моей тайне. А я вот неподобающе себя вел.
На полный выговор.
- Я, Адам Петрович, не из болтунов. Вы меня не первый год знаете. И
ваши дела меня не касаются. У вас свои, у меня свои.
- Обиделся?
- Обиделся. А мне хоть бы и век прожить, ничего о них не зная. Ни о чем
я у вас не спрашивал. Неинтересно, извините.
- А напрасно. Все может быть. А насчет "хоть бы век", так зарекался
кто-то. - Он похлопал меня по плечу. - Ну, хватит дуться. Ну, скажи лучше
что-нибудь.
- Раз уж я случайно что-то услышал, то вернемся к Марьяну. Что-то и в
его деле тревожное. Вот ведь иконы, валюта - не спрашиваю, что там такое
случилось, куда вам надо ехать. Но почему того же не может быть тут? И
наконец, предчувствиям тоже надо верить. Понимаю, что этот материал ни для
абелей в отставке, ни для милиции, ни для суда, но иногда надо верить, если
сердце говорит, если сжимается...
Он внимательно смотрел на меня.
- Может, и надо. Верь и гляди.
Поднялся.
- Не следовало бы бросать тебя до утра в твоем состоянии. Но сам
слышал... Выпить что-нибудь у тебя есть?
- Есть вино.
- А покрепче?
- Хмгм...
- Возьми вот. Ты ведь не из тех, что потом по городу шатаются? Ну вот и
выпей хорошенько. Сегодня разрешаю. Чтоб спал, слышал? Ну, пошли.
Хилинский знал, что делал.
...Никогда в жизни, ни до этого, ни после, я не выпивал столько.
Дорвался мальчик. Сполна использовал совет соседа. И уснул как убитый.
Раздетый, как всегда, но почему-то при галстуке на голой шее. Или, может,
все же хотел "шататься"? Искать Зою? Наверное.
В следующие пять дней я искупал грех своего "пьянственнаго глумлениа".
Работал, не давая себе ни минуты передышки.
Нельзя было поверить в то, что только сама ценность старой книги могла
вызвать такую осаду квартиры Пташинского, все эти звонки, следы под окнами и
все такое. Я почти был уверен, что разгадка где-то в самом тексте: какая-то
приписка на полях страницы, надпись, умело скрытая в вязи орнамента,
что-нибудь еще. И вот я искал. Вслепую, потому что не знал, где и что
искать.
Много раз за жизнь я читал евангелие, одну из лучших (если не самую
лучшую) из историй, придуманных человечеством за все свое существование. Мне
приятно было читать ее и теперь, думать над отдельными местами, воображать,
фантазировать. И все же не так приятно, как прежде, потому что, хотя я и
читал почти по складам - я не раздумывал над смыслом, а искал за ним иное.
Так для человека, который вдруг заметил первый гриб, мгновенно перестает
существовать зеленая поющая красота роскошного летнего леса.
Так и я шел, уткнувшись носом в землю. Без всякой пользы, кроме
моральной. Да и та была второго сорта, потому что я следил, а не думал.
Иногда возникали мысли, что скрывать что-то в таком тексте
богохульство, а уж для средневекового человека (если только прятал он) - не
просто богохульство, а богохульство, которое граничит с ересью, с гибелью
тела и бессмертной души. И если это так, тайна должна быть исключительно
важной, или... человек тот не должен был верить ни в бога, ни в черта, ни в
закон того времени.
Я прочитал все четыре евангелия и деяния апостолов и их послания,
начиная от послания Иакова и кончая посланием к евреям. Оставался лишь
"Апокалипсис" Иоанна Богослова да нелепо примазанный к нему статут, тоже с
посланиями, но уже светских властителей.
Ничего!
Хотя бы тень какого-то следа, какой-то догадки!
В конце концов, я начал думать, что с этим текстом мы ошиблись. И, что
самое худшее, к этой же мысли склонялся и Марьян. В последние дни он пару
раз заходил ко мне, и мы до боли в глазах тупо вглядывались в тексты,
проворачивали под черепами гипотезы, и все это только для того, чтобы тут же
отвергнуть их. Единственное, в чем мы продвинулись вперед, был подлинный акт
об исчезновении жены Ольшанского, напечатанный в "Актах, изданных
археографической комиссией"...
- А что это нам даст? - спросил я.
- А может...
- Рыбу нам с тобой ловить, а не искать.
- Половим. Уже скоро. Даже на озерах лед почти растаял.
И мы снова до одури, до обалдения сидели над книгой и копией, и Марьян
ворчал:
- Тоже мне Холмсы... Пинкертоны... Картеры... Станкевичи... Мегрэ...
В ту вонючую и промозглую мартовскую пятницу - это было, кажется,
двадцать девятого марта - мы также ни до чего не додумались.
- Пророк Наум и тот бы не додумался, - плюнул наконец Пташинский.
- Ну-ну. Неужели мы вдвоем глупее его одного?
Я пошел проводить Марьяна. От собственной беспомощности на душе было
тошно.
- Как щенки слепые, - сказал Марьян.
Впереди по лестнице спускался интересный молодой человек, сосед
Лыгановского. И в этот раз у него в руках было ведро с мусором. Где он его
берет?
- Вот такой мусор и у нас в головах. Выбросишь - и останется пустая
глиняная макитра.
- А может, и в самом деле надо все выбросить и начать сначала, - сказал
я. - Может, дело и не в тексте? Может, что-то выскоблено? Может, суть не в
содержании, а в ведре? В самом существовании вещи?
- Надо будет посмотреть. Завтра же.
Мы остановились у табачного киоска. Я купил пачку "БТ", а Марьян
виновато улыбнулся и попросил пачку "Шипки".
- Бросил бы ты это, Марьян, - сказал я. - Ей-богу, брось.
- Проклятая слабость. Да я одну-две в день буду.
- И я на вашем месте бросил бы, - сказал поучительно "бригадир Жерар".
- Вот друг ваш - он ведь здоровенный, вроде першерона или брабансона, - уж
вы извините, товарищ Космич, - но я и ему советовал бы бросить. Капля
никотина убивает лошадь.
- Я не лошадь, - сказал Пташинский.
- Вижу. А вы посмотрите на свои ногти. У них голубоватый оттенок.
И вдруг разошелся... Достал из кармана металлическую тавлинку*.
______________
* Плоская табакерка, чаще берестяная, реже металлическая, для
нюхательного табака.
- Хотите, я вам вместо этой дряни нюхательную табаку буду доставать?
Сам протираю.
Он зарядил в каждую ноздрю по здоровенной порции зеленоватой пыли. В
следующую секунду пушка ударила, и Пахольчик довольно закрутил носом.
- Аж в очью посветлело. Учтите, свою же коммерцию подрываю. Но здоровье
человека всего дороже, как говорил средневековый римлянин Гиппократ. А если
вам скажут, что сушит слизистую оболочку, что будет сухой катар, - это
чепуха господа бога - пусть простит он меня и смилуется... Так что?
- Нет уж, - вздохнул Марьян.
- Смотрите, - сказал Пахольчик, подавая ему "Шипку". - Если надумаете -
приходите. Достану. И не "Пчелку", холера ее возьми, а настоящий табачок.
На углу мы простились.
- Если не поеду в Вильно на пару дней, то завтра зайду, - сказал он.
- Заходи.
- Жаль, что эту книгу нельзя распотрошить. Может, в обложке что-нибудь
заклеено?
- Нет. Обложка тех же времен.
- Черт побери! В голове ни одной мысли, что бы все это могло значить.
Перейдя улицу, он обернулся и поднял руку:
- Прощай!
Я прикурил, а когда глянул ему вслед, его уже не было видно в снежном
заряде, что внезапно обрушился на город.
�ГЛАВА V�
Человек исчез
Минуло еще четыре дня. Пришел апрель. Сугробы снега, отброшенные зимой
машинами под деревья, стали совсем маленькими, гряз
- Ну, шестьсот тысяч, ну, семь миллионов.
- Так вот, ответь мне теперь, дорогой ты мой шалопай, лоботряс и
вертопрах Антон Глебович, каким таким образом мог человек, даже
могущественный, наворотить за полгода состояние в шестьсот тысяч золотых да
на семь миллионов драгоценными камнями - это по тем временам, когда и в
самом деле "телушка-полушка" была, - и каким образом он, даже если бы ел то
золото и его наследники ели, мог за каких-то сто тридцать лет расточить,
промотать, растранжирить, струбить, ухлопать такой капитал? А ведь они,
кроме того, ежегодно имели фантастические доходы.
- Отвечаю на первую половину вопроса: возможно, знал о казне
заговорщиков и прибрал ее к рукам.
- А может, выдал? - спросил Марьян.
- Такое о людях брякать бездоказательно нельзя, если даже они и гниют
уже в земле триста лет. На то мы и историки.
- Угм. "История, та самая, которая ни столько, ни полстолько не
соврет". Сгнил он, только не в земле, а в саркофаге Ольшанского костела. Там
на саркофагах статуи каменные лежат. Такая, брат, лежит протобестия, с такой
святой да божьей улыбочкой. Сам увидишь.
- Почему это я вдруг "увижу"?
- Если захочешь - увидишь. Ну вот, а что касается исчезновения -
вспомни балладу этого... менестреля застенкового*.
______________
* Засценак - усадьба, мелкое поместье, деревня, населенная мелкой
шляхтой. В другом значении - захолустье (бел., польск.).
- Выдумка.
- У многих выдумок есть запах правды. Я искал. Искал по хроникам,
воспоминаниям, документам. Сейчас не стоит их называть - вот список.
- И докопался?
- Докопался. Тебе говорит что-нибудь такая фамилия - Валюжинич?
- Валюж... Ва... Ну, если это те, то Валюжиничи - древний род, еще от
"своих" князей, тех, что "до Гедимина". Имели владения на Полоцкой земле,
возле Минска и на северо-запад от него. Но к тому времени все реже
вспоминаются в универсалах и хрониках, видимо, оскудели, потеряли вес. В
общем-то, обычная судьба. В семнадцатом столетии исчезают.
- Молоток, - с блатным акцентом сказал Марьян. - Кувалдой станешь. Ну,
а последний всплеск рода?
- Погоди, - сказал я. - Гомшанское восстание, что ли?
- Ну-ну, - подначивал он.
- Гремислав Андреевич, кажется, Валюжинич. 1611 год. Знаменитый "удар в
спину"? Черт, никак я этих явлений не связывал.
- А между тем, Гомшаны от Ольшан - не расстояние. Да, Валюжинич. Да,
две недели беспрерывных боев и потом еще с год лесной войны. И на крюк
подвешенные, и на кол посаженные. Да, знаменитый "удар в спину", о котором
мы так мало знаем.
- Невыгодно было писать. "Предатели". И в такой момент! Интервенция,
война. Последующие события, наверное, и заслонили все... Сюжет, Марьяне!
- Невыносимый ты, - возмутился он.
- Сгораю от любопытства. Не тяни.
- Ну так вот. И подсчитал я, мой дорогой, по писцовым книгам и актам,
что за эти годы, учитывая и доходы с поместий, потомки, несмотря на все
"сумасбродства", не могли истратить более трети приобретенных сокровищ. Это
при самом что ни на есть страшном, "радзивилловском" мотовстве. И вот в год
бунта Валюжинича в Ольшанах княжит Витовт Федорович, пятидесяти семи лет, а
жена у него - Ганна-Гордислава Ольшанская, двадцати пяти лет, а в девичестве
княжна Мезецкая. И княгиню эту нещадно упрекает в своем послании бискуп*
Кладненский Героним за забвение княжеской и женской чести, а главным образом
за то, что враги княжества великого пользуются для тайных с нею встреч
монашеской одеждой.
______________
* Бiскуп - духовное лицо, имеющее высшую степень священства в
христианской церкви (бел., польск.).
- Действительно, ужас какой, - сказал я. - "Дама с черным монахом".
- И паршивый белорусский романтизм, - сказал Марьян. - Вот, представь
себе такую мою гипотезу. Все разбито. Спасения нет. Повсюду рыскают вижи -
соглядатаи и шпики. Сподвижники на кольях хрипят. И во всем с самого начала
повинен князь Витовт Федорович Ольшанский. Ему на откуп было отдано
Кладненское староство. Он греб бессовестно и неистово, много денег содрал с
него на свою корысть. По его вине вешают людей. А жена, как и в балладе, -
ангел. Что, не могли они ту казну, сокровища те, захватить и убежать? Чтобы
хоть часть награбленного возвратить жертвам?
- Гипотезы, - сказал я. - Откуда тот поэт мог знать?
- А ты подумал, сколько архивов, семейных преданий, слухов, легенд,
наконец, могло исчезнуть за сто с лишним лет? С войнами, да пожарами, да
революциями? Наверное, что-то знал.
Он опять закурил. Не нужно было ему это делать.
- И вот в 1612-м, - он выпустил кольцо дыма, - этот человек, этот
"монах", исчезает. Самое любопытное, что исчезает и она. Или бежали, или
были убиты - кто знает? Скорее всего - бежали. Имеется свидетельство
копного* судьи Станкевича, что погоня княжеская была, потому что те будто бы
взяли Ольшанские сокровища, но он, Станкевич, властью своей погоню ту
прекратил и гонити, под угрозой смертной кары от короля, не позволил. Может,
какой-то другой княжеский загон догнал беглецов и убил? Нет. В том же копном
акте имеется клятва Витовта Ольшанского на евангелии, что не убивал и нет
крови на его руках. И что после его последней встречи с ними, когда
выследил, как убегали они из Ольшан, такие-то и такие свидетели знают, что
они были живы еще спустя две недели... А между тем их следы исчезли. Ни в
каком городе аж до Вильно, Варшавы и Киева следов их нет.
______________
* Представитель государственной администрации, следившей, чтобы копа,
суд копный (суд деревенской или городской общины в средневековой Белоруссии)
не нарушали копных обычаев и права (древний бел. яз.).
- Ну, мало ли что! Тихо жили, вот и нет. Хотя попробуй проживи тихо с
таким богатством.
Вдруг меня осенило.
- Погоди, а зачем там был копный судья Станкевич, человек из рода
белорусских шерлок-холмсов, потомственный сыщик? Пускай он себе
государственный муж, сыск для него - тоже дело далеко не второго порядка. Но
ведь в шестнадцатом-семнадцатом столетиях почти ни одного шумного дела не
было, чтобы его кто-то из Станкевичей не распутывал. Вплоть до самого
нашумевшего Дурыничского убийства*.
______________
* Убийство (14 октября 1606 г.) Мариной Карлович, урожденной
Достоевской (из рода предков великого писателя; главное владение - Достоево
под Пинском) мужа, покушение на жизнь пасынка и составление фальшивого
завещания. Суд по следам этих событий (судья - староста минский Андрей
Станкевич) начался 6 марта 1607 года.
- То-то же и оно! Как раз во время исчезновения беглецов король
назначил Станкевича на ревизию имений и прибылей князя Ольшанского.
- И...
- И ревизия эта закончилась ничем. Все сокровища исчезли. Исчезли и те,
кто забрал их. Исчезли все расчетные книги, документы, даже родовые грамоты.
Все исчезло. Племянникам князя Витовта пришлось их заново выправлять. И
оттого над ними позже крепко смеялись и, когда хотели поиздеваться,
высказывали сомнение: дескать, так ли уж на самом деле древен их род, не
вписали ли они себя сами в разные там привилеи и книги. А у них и богатства
дядькиного, сказочного, не осталось, чтобы хоть роскошью заткнуть рты,
замазать глаза.
- Племянники? Почему? И неужто следствие не докопалось до истины?
- Нет, не докопалось. Да, племянники. Потому что через год после начала
следствия князь Витовт Ольшанский нежданно, скорым чином умре.
Мы замолчали. Ненастный, слякотный день за окном все больше тускнел.
- Но почему следствие? - спросил я.
- Вот и я думаю, почему.
- Всплыли события столетней давности?
- Кого они интересовали? Даже если и было какое-то преступление, то что
- отвечать внуку за деда? Через сто лет?
- Могли польститься на деньги. Государственная казна была пуста.
- Чепуха. Скорее бы новую подать наложили - и все.
- А может, на откупе князь проворовался?
- Тоже никого не интересовало. Уплатил сразу всю сумму, получил
староство в аренду, а там кому какое дело, даже если бы ты трижды столько
содрал с жителей?
- Может, дела восстания? Связь этой... урожденной Мезецкой с главарем?
- Дело касалось Ольшанского. Мезецких трогать бы не стали. В 1507 году
какая-то прабабка нашей героини была "сердцем и душой" великого князя
Жигимонта. И с того времени - приближенные к королям, очень доверенные люди.
- Так, может, расследовали исчезновение княгини Ганны?
- Позже она исчезла. Следствие уже с месяц шло. Видишь, сколько версий:
старинный заговор - откуп - события восстания и то, как они отразились в
семье князя.
- А возможно, и то, и другое, и третье.
- Может быть. Вот и занялся бы. Займись, а? Вот тебе и тема для
очередного расследования.
Святая Инесса смотрела на меня, умоляюще сложив руки.
Я не мог отказать ей.
- Подумаю, - сказал я. - Однако, послушай, Марьян, какая может быть
связь между двумя событиями тех лет, да еще разделенных целым столетием,
этой книгой из Ольшан, давно заброшенной, никому не нужной, кроме музея, да
таких, как мы с тобой, и тем, что какие-то барыги от бизнеса на старине
звонят тебе, ходят под окнами и так далее. Может, под окнами совсем не те,
что звонили.
- Может. Но тревога такая, что, кажется, вот-вот умру. Какое-то
предчувствие. Вот говорит сердце, и все.
- Говорит, потому что больное. У тебя разве не было прежде таких
приступов беспричинного ужаса?
- Это не то. Это не от сердца. Это глубже. Словно у собак перед
пожаром.
- Обратись в милицию, как я тебе советовал.
- Чтоб приняли за сумасшедшего?
- Тогда успокойся. Довольно себя истязать.
Я поднялся. Надо было идти домой. И тогда Пташинский как-то внутренне
засуетился. Начал нервно трепать темные волосы. Глаза стали беспомощными.
- Знаешь что...
Он взял старую книгу и протянул мне.
- Знаешь... Возьми ты ее с собой... Они...
- Кто они?
- Не знаю. Они... Они не подумают, что я такую вещь мог выпустить из
дома. Мне спокойнее будет. Хорошенько спрячь. Я буду иногда заходить.
Исследуй ее, потом мыслями обменяемся.
- А над чем же будешь думать ты?
- У меня хорошая фотокопия. Я, чтобы не трепать книгу, работаю по ней.
К тому же я в палеографии разбираюсь хуже тебя. А ты - погляди. В чем там
дело? Возьми вот портфель. Можешь оставить у себя.
Портфель был огромный. Даже эта большая книга скрылась в нем, и еще
осталось свободное место.
Я собрался было идти один, но увидел, что Пташинский натягивает пальто.
Когда он брал на поводок собак, я было возмутился.
- Это еще зачем?
- Молчи, Антон. Надо.
Он дал мне еще повод удивиться. Заскочил в ближайший "Гастроном".
Собаки, конечно же, остались со мной, люто зыркали вокруг. Я думал, что он
вынесет бутылку. А он вынес три. Одну, как и положено, с вином, а две... с
кефиром.
- Марьян, - сказал я. - Ведь я его терпеть не могу. Это же какая-то
глупая выдумка. Мне же молоко бабка носит, я же сам его заквашиваю, делаю
наше, деревенское. Мне от этой кефирной солодухи блевать хочется.
- Можешь вылить, - сказал он, засовывая бутылки в портфель так, чтоб
были видны горлышки. - Кислое молоко! Устойчивые привычки старого кавалера.
- Маскарад? - с иронией спросил я. - Совсем ты рехнулся, Марьян, в
детство впадаешь, сукин сын.
- Ладно, - проворчал он, беря поводки. - Ты иди себе. Иди. Топай. Я
провожу.
Его тревога, как это ни странно, передалась и мне. Понимал, что все это
вздор, а не тревожиться не мог.
...У подъезда Пахольчик высунулся из своего киоска:
- Бож-же ж ты мой, вот это собаченции! Звери! А что б это могла быть за
порода такая - не сделаете ли одолжение объяснить?!
- Тигровые доги, - буркнул Марьян.
- Ай-я-я-яй, чего только не бывает! И тигра и собака! А скажите мне,
как это их повязывают? Ведь тигра, хотя и большой, а кот. Как же он - с
собакой?
- Силком, - сказал Марьян.
- Дрессируют, - добавил я, но тут мне стало жаль старика. - Это просто
масть у них такая, тигровая. Мы шутим, дядька Герард.
- Ну, бог с вами. Шутить не грех. Гляжу, прогулялись вы сегодня,
румянец здоровый. И хорошо, что кефир на ночь пьете. Здорово это - кефир.
- Еще бы, - сказал я. - А с вином и совсем недурно.
Мы вошли в подъезд.
�ГЛАВА IV�
Про женщину из прошлого,
абелей в отставке
и о том, как чтение евангелия
не принесло никакой пользы, кроме моральной
Когда Пташинский ушел, я вспомнил, что уже три дня не могу дописать
батьке письмо. Совсем закрутился с этой книгой. И письмо это несчастное уже
давно было по сути написано, но тетка Марина всегда обижалась, если я не
приписывал лично для нее хотя бы несколько строк. Человек она пожилой, с
капризами.
Я решил, наконец, свалить с плеч эту обязанность. Достал еще один лист
и, помолясь богу, чтоб только не обидеть неосторожным словом, начал писать:
"Мариночка, тетенька! Ты же ведь знаешь, как мне тяжелехонько писать,
какой я бездельник. Иное дело звонить, но я звонил и не дозвонился. Уже
потом узнал о Койдановской свадьбе и что вы там были. Загрустил я по тебе и
отцу. Если он забыл все слова, кроме "запсели они, сидя в городе" и
"приезжай, половим рыбу", то хоть ты возьми лахi пад пахi* и приезжай ко
мне. Как получишь письмо, так и выезжай, чтобы назавтра я тебя видел здесь.
Поговорим, в театр на новую пьесу сходим. Страшно интересно! А то боюсь,
вдруг случится что, пошлют куда-нибудь и тогда до лета не жди. Правда,
возьми и прикати. У тебя ведь теперь есть свободное время. Заодно я надумал
купить вам кое-что. Приезжай, скажем, 12-го в 11 часов поездом. И не
откладывай. Встречу на машине. В самом деле, за чем остановка? Дай
телеграмму, если приедешь позже. А то у вас с утра работа, и днем, и вечером
работа. А я вас знаю.
______________
* Вещи под мышку (бел.).
Дела мои с новой книгой пошли на лад. И так все вдруг получилось!
Помогли рецензии, дай бог здоровья Петровскому и Клецкину. Так что,
позвольте доложить, целую тебя уветливо и умильно и остаюсь
твой почтительный благоговейный племянник
Антон".
Ф-фу-у! Вот ведь и люблю я тетку, и беседовать с нею одно наслаждение,
а написать слова, что сказал бы устно, - зарез.
Я отложил письмо, погасил настольную лампу. Снова перелистал книгу
Пташинского и вдруг решил, что ее не стоит оставлять на виду. Словно
подозрительность Марьяна заразила и меня. Поэтому и взял тяжелый том и понес
к секретеру.
У меня мало старых вещей, не то что у Марьяна, но даже Марьян завидует
моему секретеру. А я горжусь им. Самое начало XIX столетия. Варьированный
местным крепостным мастером до неузнаваемости ампир. И эти вариации сделали
ампир, если это только возможно, еще более благородным. Строгие формы,
продуманность каждой детали, рассчитанное удобство и красота. Черное дерево
и самшит, скупо инкрустированные перламутром. И как только откинешь доску -
встает перед глазами радуга: бабочки над стилизованными полевыми цветами.
Сколько я намучился, пока чуть ли не из груды лома восстановил его.
Но главное не это. Главное - тайник, который я сам случайно обнаружил
только около года назад. Нажимаешь на пластинку возле замка, подаешь ее
вперед, а потом влево, и отодвигается в сторону задняя стенка отделения для
бумаг. А если при этом нажать на среднюю бабочку - откроются боковые
тайники, очень вместительные.
Там можно прятать письма, документы и все такое прочее. Туда я сейчас
положу книгу Марьяна. Не нужно, чтобы ее видело больше людей, чем это
необходимо. Ну и потом: у меня "увели" довольно много книг. От "Сатира"
Кохановского до "Вина из одуванчиков" Бредбери. Увели даже белорусский том
"Живописной России", несмотря на гигантские размеры. Если кто-нибудь
"одолжит" и это - будет плохо. Как тогда смотреть в глаза Пташинскому и у
кого одолжить глаза для себя? У собаки, что ли? А таких охотников на
"позаимствование без срока" у нас все больше и больше. И даже суда на них
нет, гадов.
Я спрятал книгу, закрыл тайник. И хорошо сделал. Потому что сразу
залился дверной звонок и появилась "моя прежняя любовь" Зоя Перервенко
собственной персоной. Явилась после того, как два месяца носа не показывала,
и я уже думал, что никогда не зайдет.
Пока я ставил на столик бутылку "Немеш кадара", яблоки и еще то-се,
пока включал нижний свет и гасил верхний, мы обменялись десятком стандартных
фраз: как жизнь, что там и чего, как со здоровьем (это в ее двадцать
восемь!). И лишь после первого бокала я сказал:
- А я думал - все.
- Оно так и есть - все. Незачем дольше тянуть, если уж ты такой
честный.
Честный не честный, но, когда в первый вечер нашего знакомства вся
компания ушла от меня, а она осталась до утра и потом оставалась почти
каждый вечер на протяжении четырех месяцев, я тогда, видит бог, не знал и
даже подумать не мог, что она замужем. Наоборот, из такого ее поведения
бесспорно вытекало, что она одна. Черт бы побрал этих мужей, что ездят на
семь месяцев в экспедиции, да еще туда, куда даже несчастный Макар не гонял
своих не менее несчастных телят.
Все всплыло наверх только тогда, когда я предложил ей поехать на юг, а
потом подумать и о чем-то "более серьезном". Тут-то она мне и поведала обо
всем. При этом, нисколько не смущаясь, предложила, как лучший вариант этого
"серьезного", что будет иногда заходить и после возвращения мужа. Я только
крякнул. И, может быть, даже согласился бы, потому что успел очень
привязаться к ней. Но это было невозможно. Ибо самым большим свинством во
всей этой истории было то, что я, оказывается, прекрасно знал ее мужа, Костю
Красовского. А он был чудесный парень, верный друг своим друзьям, широкий,
независимый, душа всякой компании, любитель погулять, честнейший палеонтолог
и добрейшей души человек. Такого обидеть - тотчас надо повеситься.
И я стал отдаляться, хотя, ей-богу, если не врать, это мне дорого
стоило.
Яркая блондинка, глаза густо-синие и холодные, поразительно изогнутые
сочные губы, стройная шея, изящные руки, безупречное тело - от высокой груди
до ног, которые уже сами по себе были как мечта каждого мужчины.
Черт бы побрал эти разные фамилии!
Черт бы побрал эту невозможность знать, замужем женщина или нет! Черт
бы взял в этом смысле всех не литовцев! Как было бы хорошо. Знакомишься.
"Красаускайте", - ну, значит, дерзай, голубчик, если она не против.
"Красаускене", - ну и топай, дорогой, прочь, ад брамы ды прама*, здесь
участок застолблен, и если получил "облизня", то иди и облизывайся, не с
твоим еловым рылом здесь мед пить.
______________
* От ворот поворот (бел.).
Во всей этой истории меня утешило только то, что она, заметив мое
отдаление, сбросила - наверное, по глупости - маску доброжелательной,
преданной, покорной женщины. И я, наконец, рассмотрел в ней безграничное
желание жить, только получая блага и ничем не платя взамен жизни и людям,
неудержимую жажду всяких там утех и наслаждений, что бы там ни творилось
вокруг, как бы плохо ни было окружающим.
Но разве она одна такая из женского племени? Это еще не причина, чтобы
перестать любить. Иногда наоборот, таких еще больше любят. И страдают, как
страдал я.
Только спустя какое-то время мой друг Алесь Гудас, тот, что подавал
мужикам в окно стакан, увидев, что я немного протрезвел, сказал:
"Не с тобой, брат, первым она этого бедного Красовского обманывает.
Такой хлопец, такой золотой парень - и на тебе!"
"Почему же ты этого раньше не сказал?"
"А ты не поверил бы".
"И то правда".
"Не поверил бы". "Влюбилась женщина". "Ну и что же, что замужем?"
"Бывает". "Это не свинство, а несчастье".
"О-ох, иди ты, Алесь, к дьяволу!"
"И вообще из-за нее Косте одни неприятности. Да и что спросить с
человека, у которого лучшие подруги маникюрщицы и продавщицы универмагов?"
"Ты что-нибудь имеешь против продавщиц?"
"Ничего. Даже люблю. Но для бесед выбираю темы не только про мохеровые
кофты".
"Знаю я, какие ты темы выбираешь".
Посмеялись. И вот так, понемногу, очень болезненно, началось мое
излечение. Но иногда она все же заходила. И всякий раз я изо всех сил
старался не заводить дело слишком далеко. Как теперь.
- Я тогда решила разводиться, - вдруг сказала она. - А потом подумала,
что все равно ты мне не простишь этого обмана. А если так, то в чем виноват
Костя? Любит меня, прощает многое. Останусь да попробую искупить вину. Чего
уж! Нагрешила, так искупай. А со всем этим надо кончать. Буду так доживать,
да и чего еще надо. Звезд с неба он, конечно, не хватает, но добрый,
честный, простой. Пусть будет так. Пора смириться, Зоенька.
Сказала как-то так тихо и грустно, что душу мою перевернула.
- Не надо. Чего уж там. Я больше тебя виноват.
- В чем твоя вина? Нет, я своего никому не отдам... Ни хорошего, ни
позорного.
Все же, несмотря на все неприятные черты характера, были в ней и
внутренняя совесть, и ум, и боль далеко не счастливого человека. Мне было
жаль ее. Наверное, потому, что немного любил.
- И ты не мучайся. Пусть будет все, как есть. Разве нам было плохо все
эти месяцы? - спросила она.
- Хорошо было, - принимая все, сказал я.
- Ну вот, значит, нам дано было счастье. Будет что вспомнить. Разве
мало? Другие и на понюх такого не имеют. Ну... ну... что ты?..
Погладила меня по голове. Это прикосновение маленькой руки заставляло
меня в свое время сходить с ума от влечения к ней. Теперь оно отозвалось
лишь болью.
- Вот видишь, значит, и в самом деле конец. Ладно. Ты не будешь против,
если я иногда буду все же заходить?
- Почему это я буду против?
- Ты не бойся. Просто так. Отогреться.
- О-ох, что же это мы все-таки натворили?!
Она положила одну свою красивую ногу на другую, пригубила вина. Лицо ее
при свете торшера было золотым, мягким и очень грустным.
- Я раньше, чем ты, забыла, что ни на что не имею права. И что тебе
было думать о моей репутации? Ты же ничего не знал. И потом, можно подумать,
что ты первый пришел ко мне и остался. Змий-искуситель. Я сама этого хотела.
И это меня к тебе тянуло. Я и сделала, чего желала и что могла.
Честное слово, сердце у меня разрывалось от этих слов. Но что я мог?
- Ну хорошо, - глухо сказала она. - Хватит об этом... Ты где был
сегодня?
Явно искала нейтральную тему.
- У Марьяна, - сказал я.
Зоя немного знала его: раза три-четыре встречались у меня.
- Он что, по-прежнему чудит с этими деревянными куклами?
- Не надо так, - сказал я. - Он делает большое дело.
- Да я разве против? Как его жена?
- Плохо с ней. Ну, это их дело. Хуже то, что он из-за нее страдает. И,
наверное, поэтому сердце снова дурить начало. Страхи разные, как всегда у
сердечников. Подозрения. А от кофе и табака никак не откажется...
- В больницу ему надо лечь. Жаль, если с хорошим человеком что-нибудь
случится. Сволочь какая-нибудь живет, а вот Сережа Певень, бедняга, такой
молодой, талантливый, только что должность такую хорошую получил, так легко
с ним людям было бы жить - и на тебе, рак.
- Это беда, - сказал я. - Великая беда! Но что поделаешь, если на долю
нашего поколения столько выпало.
Она вдруг решительно поднялась.
- Ну, нечего засиживаться. - Поколебалась немного - и оставила "Немеш
кадар". - Приторный.
- Ты ведь любишь полусладкие.
- Наши люблю. А может, мне просто в эти дни все приторно? Слушай,
Антось, а что это мы в первый наш вечер пили, не помнишь?
- Помню. Ты была в голубом платье. И бусы янтарные на шее. И губы не
накрашенные. А пили мы тогда "Хванчкару".
- Пожалуй, нигде ее теперь нет. А хорошо было бы... по последнему
бокалу... Так, как тогда - по первому. Ведь это же последний, Антоша...
Последний. И ничего тут не поделаешь. И вот стол твой с чистой бумагой, и
этот подсвечник, и лампа. И всего этого я, наверное, уже не увижу, потому
что не знаю, найду ли силы заглядывать к тебе.
Слышать это было невыносимо, и потому я, чтобы отдалить неминуемую
последнюю минуту, тихо сказал:
- Почему не достанешь? Вчера в магазине была "Хванчкара". Чудеса
какие-то. Видимо, что-то большое в лесу сдохло... Большой какой-то зверь
подох... Разве что разобрали? Давай сбегаю.
- Сбегай, - сказала она глухо. - Окончим тем, с чего начали. Только не
задерживайся там долго. Мне страшно будет тут... одной.
Когда я уже надевал пальто, она спросила:
- Деньги у тебя хоть есть? А то возьми...
- Есть.
Я быстро бежал в магазин и проклинал себя всеми возможными словами.
...Когда я возвратился, она стояла у окна и смотрела в темноту.
Обернулась ко мне и вытерла глаза.
- Я, глупая, погнала тебя, не спросив, хочешь ли этого ты.
- Не хотел бы - не пошел.
- Тогда налей.
Мы сидели и перебрасывались малозначительными словами, но у меня было
такое состояние, словно я на собственных похоронах или на похоронах чего-то
дьявольски важного. Никогда в жизни мне еще не было так тяжело и скорбно.
Когда мы уже одевались в прихожей, она вдруг припала к моей груди.
- О-ох, Антон... Что я наделала! Почему с самого начала не сказала
правды? Зачем обманула?
- Слушай, - не выдержал я, - оставайся. Навсегда. Я не могу больше.
Глаза у нее была влажные, невыплаканные.
- Нет, - сказала она, - не имею права. Да и зачем? Назад не вернешь. Но
я все же, может, когда-нибудь зайду к тебе погреться. И только.
В эту минуту я снова любил ее, может, больше, чем прежде. Мое сердце
мучительно тянулось к ней. Но я понял: и в самом деле - все. Она так решила.
...Мокрый снег лепил в наши лица, когда мы вышли на бульвар. Она
поймала такси, но долго стояла возле него и смотрела мне в глаза.
- Ну, прощай, - наконец сказала она, словно от себя оторвала что-то. -
Раньше в таких случаях надо было перекрестить. А теперь...
Она прижалась к моим губам холодными мокрыми губами и, когда они
потеплели, с трудом оторвалась.
- Прощай. Бог с тобой. Прости.
Хлопнула дверца такси. Последний раз взметнулась за стеклом рука в
белой перчатке. Потом машина рванулась с места, окатив мои ноги мокрым бурым
снегом.
...Все во мне плакало, и не столько от любви, сколько от утраты.
Неизвестно почему я зашел в кафе "Космос", выпил там у стойки бокал коньяка,
потом пошел шататься по улицам, нащупал в кармане измятый конверт с письмом
к отцу и опустил его в ящик, долго сидел на мокрой скамейке и бесцельно
смотрел на радужные пятна фонарей в черных обледенелых ветвях. Затем снова
выпил у стойки. На этот раз вина.
...Пуще смерти было возвращаться в пустую квартиру, еще пахнущую ею. И
потому я, сам не зная как, нажал звонок на двери Хилинского.
Он открыл мне, окинул взглядом и, по-видимому, малость испугался.
- Заходи, - сказал он. - Чего-нибудь выпьешь? Ну, конечно, выпьешь.
Снимай пальто. Я сейчас.
Как Марьяна выживали из квартиры иконы, так полковника (а может, он и
не полковник был, а в самом деле Абель в отставке, черт его знает и черт его
завяжет человечьи языки) выживали из квартиры книги. Лишь два небольших
простенка были свободны от них. Перед одним стоял на столике эпидиаскоп
(Хилинский увлекался снимками на слайды, добывал каким-то чудом немецкую
пленку "Орвоколор", и этот простенок использовал, чтоб демонстрировать
самому себе снятое). Сейчас у столика с эпидиаскопом лежали пластмассовые
рамки, ножницы, змеями извивались пленки. Все прямо на полу, на ковре.
На втором простенке, над тахтой, висел портрет в овальной раме,
писанный в манере старых мастеров. Даже лаком покрытый. Портрет был прорван
у нижнего закругления рамы: рваная рана была кем-то грубовато зашита и
по-любительски закрашена. На портрете - женщина в черном с красным платье. И
сама смуглая, южного типа.
Всякий раз, когда я заходил к Хилинскому, меня удивлял этот портрет.
Никогда еще мне не доводилось видеть такое значительное женское лицо. И
такое красивое одновременно. Глаз не оторвать. И полуоткрытый рот, и гордый
нос, и лоб, и вся эта нежно-горделивая, совершенная стать. О, господи мой
боже!
Хилинский прикатил столик на колесах, перегрузил с него на другой,
круглый, стеклянный, начатую бутылку виньяка, лимон, спрессованный в колбасу
грузинский инжир.
- Ну, чтоб сгинула беда.
Выпили.
- Да что с тобой наконец, парень? Ректора к трем чертям послал? А?
- Нет. А стоило бы.
- Калеку избил? В дочку архиерея влюбился?
- Какая же у архиерея дочка?
- Ну что еще? Троцкого на лекции случайно процитировал?
Я молчал.
- Ага. Случайно зашел в однотипную с твоей квартиру, молока попил и
думая, что дома, провел время с чужой женой, как со своей. Света не хотел
включать. А все - однотипное.
- Да, - сказал я.
И тут он понял, что я не шучу. А я, сам не зная почему, рассказал ему
всю эту мою историю. Конечно, без имен. Конечно, изменив все, что надо было
изменить.
- Досадно, - сказал он. - Но что поделаешь? В дальнейшем, прежде чем
кидаться башкой в омут, узнай обо всем. Страстность эта наша глупая,
белорусская, губит нас. А ты, если уж так случилось, предложил ей пойти с
тобой?
Я рассказал, как все было.
- Возврата нет, Адам Петрович. Мучает, изводит она себя за обман. Но
что делать?
- Молчать надо, хлопец, - после паузы промолвил он. - Возможно, там еще
и склеится, если молчать, если никто никому ничего. А ты - что же, отстрадай
свое. С бедой переспать надо. И не одну ночь. Тогда она тебе обязательно
изменит с кем-нибудь другим. Только тогда станет легче.
Я не узнавал его. Обычно так и сыпались из него присказки, часто
фривольные, а тут передо мной сидел человек, углубленный в мое горе, даже, я
сказал бы, суровый человек.
Вид у меня был, наверное, безутешный, потому что Адам сморщился почти
жалобно, вздохнул и налил еще по рюмке.
- Давай за нее. Все же благородства в ее душе, наверное, больше. Вот за
это.
Он наблюдал за мной.
- Да не убивайся ты так. Возьми вот, покури трубку. Хотя у вас кишка
тонка. Все на сигаретках. Импортных.
У меня перехватило дыхание.
- Ну перестань ты. Перестань! Это еще, Антон, не горе.
И, видимо, что-то решив, вздохнул.
- А, чтоб тебя! Ну, ладно. Искренность за искренность. Видишь портрет?
- Вижу.
- И никогда не спросил, кто это. Деликатный. Да я, может, тогда и сам
тебе не ответил бы. А теперь скажу. Уж очень ты плох. Убиваешься сверх
всякой меры. А меры человеческому несчастью не знаешь.
Выпил.
- Моя жена. По профессии была актриса.
Его сухое лицо словно обтянулось кожей на скулах и обвисло книзу. И
сразу обрезались глаза под тяжело нависшими веками.
- Как считаешь, кто она по национальности?
- Не разбираюсь я, Адам Петрович, в южных типах. Белоруса за версту
отличу, а тут судить боюсь.
- А все же...
- Грузинка? Армянка? Таджичка?
- Да нет.
- Молдаванка? Еврейка?
- Еще хуже, - горько сказал он. - Цыганка...
Затянулся.
- Вот в этом и была ее главная вина. А по вине и кара. И еще хорошо,
если первый попавшийся по дороге яр. Короче были страдания. А я в то время
был очень далеко... Не имел возможности вывезти, помочь... Не мог, не имел
права даже возопить, что вот вы самого дорогого мне человека, сволочи, в
лагерях, в оспе этой на всей земле, замучили. И сын потерялся где-то... Имею
лишь тень весточки: отбирали детей нордического типа. А он беленький, в
меня. Ты не смотри, что я теперь седой... Был я белый.
Искоса взглянул на портрет.
- Какая была Грушенька в "Очарованном страннике", какая Маша в "Живом
трупе"! Пела - плакали люди. И за это - яр. За все - яр.
Отложил трубку.
- С этим... притерпелся не притерпелся, а так, притупилось трошки... А
вот с сыном... Попал ли он обратно, в наш детский дом? А может, и... там. И
не исключено, что какому-то нашему такому... Грибку доведется
перестреливаться с ним... Вот так.
Взял рюмку с золотистым напитком.
- Я тебе это не затем рассказал, чтобы ты меня пожалел. Я затем, чтобы
ты себя пожалел. То, что произошло с тобой, не самое страшное. Не самое
последнее.
Благодарность моя к нему была такая большая, сочувствие такое
невыносимое (в самом деле, чего стоила моя горечь по сравнению с его!), что
я понял: надо переводить разговор на другую тему. Однако эта другая тема
никак не приходила в голову. Поэтому я рассказал кое-что из страхов
Пташинского.
- Ну, это не загадка, - сказал Хилинский. - Отчасти виной тому эти
типы, обычные барыги, бз... ы, которым с законом связываться никак не с
руки. А больше всего - болезнь. Это из-за сердца.
- И я так думаю.
В этот момент зазвонил телефон. Хилинский вышел в спальню, прикрыл за
собой дверь, но слышно ему, наверное, было плохо, поэтому он вынужден был
говорить громче, чем обычно, и я кое-что услышал.
- Иконы? В связи с этим? А, черт бы их побрал с этими девизами*!
______________
* Вексель, чек и т.п., выписанный в иностранной валюте и подлежащий
оплате за границей (франц.).
"Специально не говорит "валюта", а "девизы". Думает, что слова не знаю.
Белыми нитками шьешь, Адам Петрович".
- Заразы. И оружие?.. Плохо слышно!.. Ясно. В час тридцать? Хорошо.
Буду.
Он снова вышел ко мне.
- Причастился ты, парень, к моей тайне. А я вот неподобающе себя вел.
На полный выговор.
- Я, Адам Петрович, не из болтунов. Вы меня не первый год знаете. И
ваши дела меня не касаются. У вас свои, у меня свои.
- Обиделся?
- Обиделся. А мне хоть бы и век прожить, ничего о них не зная. Ни о чем
я у вас не спрашивал. Неинтересно, извините.
- А напрасно. Все может быть. А насчет "хоть бы век", так зарекался
кто-то. - Он похлопал меня по плечу. - Ну, хватит дуться. Ну, скажи лучше
что-нибудь.
- Раз уж я случайно что-то услышал, то вернемся к Марьяну. Что-то и в
его деле тревожное. Вот ведь иконы, валюта - не спрашиваю, что там такое
случилось, куда вам надо ехать. Но почему того же не может быть тут? И
наконец, предчувствиям тоже надо верить. Понимаю, что этот материал ни для
абелей в отставке, ни для милиции, ни для суда, но иногда надо верить, если
сердце говорит, если сжимается...
Он внимательно смотрел на меня.
- Может, и надо. Верь и гляди.
Поднялся.
- Не следовало бы бросать тебя до утра в твоем состоянии. Но сам
слышал... Выпить что-нибудь у тебя есть?
- Есть вино.
- А покрепче?
- Хмгм...
- Возьми вот. Ты ведь не из тех, что потом по городу шатаются? Ну вот и
выпей хорошенько. Сегодня разрешаю. Чтоб спал, слышал? Ну, пошли.
Хилинский знал, что делал.
...Никогда в жизни, ни до этого, ни после, я не выпивал столько.
Дорвался мальчик. Сполна использовал совет соседа. И уснул как убитый.
Раздетый, как всегда, но почему-то при галстуке на голой шее. Или, может,
все же хотел "шататься"? Искать Зою? Наверное.
В следующие пять дней я искупал грех своего "пьянственнаго глумлениа".
Работал, не давая себе ни минуты передышки.
Нельзя было поверить в то, что только сама ценность старой книги могла
вызвать такую осаду квартиры Пташинского, все эти звонки, следы под окнами и
все такое. Я почти был уверен, что разгадка где-то в самом тексте: какая-то
приписка на полях страницы, надпись, умело скрытая в вязи орнамента,
что-нибудь еще. И вот я искал. Вслепую, потому что не знал, где и что
искать.
Много раз за жизнь я читал евангелие, одну из лучших (если не самую
лучшую) из историй, придуманных человечеством за все свое существование. Мне
приятно было читать ее и теперь, думать над отдельными местами, воображать,
фантазировать. И все же не так приятно, как прежде, потому что, хотя я и
читал почти по складам - я не раздумывал над смыслом, а искал за ним иное.
Так для человека, который вдруг заметил первый гриб, мгновенно перестает
существовать зеленая поющая красота роскошного летнего леса.
Так и я шел, уткнувшись носом в землю. Без всякой пользы, кроме
моральной. Да и та была второго сорта, потому что я следил, а не думал.
Иногда возникали мысли, что скрывать что-то в таком тексте
богохульство, а уж для средневекового человека (если только прятал он) - не
просто богохульство, а богохульство, которое граничит с ересью, с гибелью
тела и бессмертной души. И если это так, тайна должна быть исключительно
важной, или... человек тот не должен был верить ни в бога, ни в черта, ни в
закон того времени.
Я прочитал все четыре евангелия и деяния апостолов и их послания,
начиная от послания Иакова и кончая посланием к евреям. Оставался лишь
"Апокалипсис" Иоанна Богослова да нелепо примазанный к нему статут, тоже с
посланиями, но уже светских властителей.
Ничего!
Хотя бы тень какого-то следа, какой-то догадки!
В конце концов, я начал думать, что с этим текстом мы ошиблись. И, что
самое худшее, к этой же мысли склонялся и Марьян. В последние дни он пару
раз заходил ко мне, и мы до боли в глазах тупо вглядывались в тексты,
проворачивали под черепами гипотезы, и все это только для того, чтобы тут же
отвергнуть их. Единственное, в чем мы продвинулись вперед, был подлинный акт
об исчезновении жены Ольшанского, напечатанный в "Актах, изданных
археографической комиссией"...
- А что это нам даст? - спросил я.
- А может...
- Рыбу нам с тобой ловить, а не искать.
- Половим. Уже скоро. Даже на озерах лед почти растаял.
И мы снова до одури, до обалдения сидели над книгой и копией, и Марьян
ворчал:
- Тоже мне Холмсы... Пинкертоны... Картеры... Станкевичи... Мегрэ...
В ту вонючую и промозглую мартовскую пятницу - это было, кажется,
двадцать девятого марта - мы также ни до чего не додумались.
- Пророк Наум и тот бы не додумался, - плюнул наконец Пташинский.
- Ну-ну. Неужели мы вдвоем глупее его одного?
Я пошел проводить Марьяна. От собственной беспомощности на душе было
тошно.
- Как щенки слепые, - сказал Марьян.
Впереди по лестнице спускался интересный молодой человек, сосед
Лыгановского. И в этот раз у него в руках было ведро с мусором. Где он его
берет?
- Вот такой мусор и у нас в головах. Выбросишь - и останется пустая
глиняная макитра.
- А может, и в самом деле надо все выбросить и начать сначала, - сказал
я. - Может, дело и не в тексте? Может, что-то выскоблено? Может, суть не в
содержании, а в ведре? В самом существовании вещи?
- Надо будет посмотреть. Завтра же.
Мы остановились у табачного киоска. Я купил пачку "БТ", а Марьян
виновато улыбнулся и попросил пачку "Шипки".
- Бросил бы ты это, Марьян, - сказал я. - Ей-богу, брось.
- Проклятая слабость. Да я одну-две в день буду.
- И я на вашем месте бросил бы, - сказал поучительно "бригадир Жерар".
- Вот друг ваш - он ведь здоровенный, вроде першерона или брабансона, - уж
вы извините, товарищ Космич, - но я и ему советовал бы бросить. Капля
никотина убивает лошадь.
- Я не лошадь, - сказал Пташинский.
- Вижу. А вы посмотрите на свои ногти. У них голубоватый оттенок.
И вдруг разошелся... Достал из кармана металлическую тавлинку*.
______________
* Плоская табакерка, чаще берестяная, реже металлическая, для
нюхательного табака.
- Хотите, я вам вместо этой дряни нюхательную табаку буду доставать?
Сам протираю.
Он зарядил в каждую ноздрю по здоровенной порции зеленоватой пыли. В
следующую секунду пушка ударила, и Пахольчик довольно закрутил носом.
- Аж в очью посветлело. Учтите, свою же коммерцию подрываю. Но здоровье
человека всего дороже, как говорил средневековый римлянин Гиппократ. А если
вам скажут, что сушит слизистую оболочку, что будет сухой катар, - это
чепуха господа бога - пусть простит он меня и смилуется... Так что?
- Нет уж, - вздохнул Марьян.
- Смотрите, - сказал Пахольчик, подавая ему "Шипку". - Если надумаете -
приходите. Достану. И не "Пчелку", холера ее возьми, а настоящий табачок.
На углу мы простились.
- Если не поеду в Вильно на пару дней, то завтра зайду, - сказал он.
- Заходи.
- Жаль, что эту книгу нельзя распотрошить. Может, в обложке что-нибудь
заклеено?
- Нет. Обложка тех же времен.
- Черт побери! В голове ни одной мысли, что бы все это могло значить.
Перейдя улицу, он обернулся и поднял руку:
- Прощай!
Я прикурил, а когда глянул ему вслед, его уже не было видно в снежном
заряде, что внезапно обрушился на город.
�ГЛАВА V�
Человек исчез
Минуло еще четыре дня. Пришел апрель. Сугробы снега, отброшенные зимой
машинами под деревья, стали совсем маленькими, гряз