ными и ноздреватыми. И
еще дважды падал снег, но каждый раз чередовался с дождем, съедавшим его на
глазах. Все чаще прозрачно, по-весеннему, синело небо.
В затишье, с солнечной стороны, во дворах было совсем сухо. И все же
весна шла, как бы оглядываясь, часто уступая дорогу холоду и ненастью.
В эти дни я несколько раз звонил Марьяну, но ответа не было. В конце
концов я не вытерпел и поехал к нему домой.
Даже собаки не ответили лаем на мой звонок. Квартира молчала, словно
вымерла, и ничего удивительного в том не было. Куда-либо уезжая, Марьян
всегда отводил псов к каким-то соседям, хотя мог бы и ко мне. Но он не хотел
мешать моей работе.
Наша общая подозрительность последних дней привела к тому, что я даже
осмотрел замок. Мне показалось, что возле него оцарапана краска. Но так
бывает, когда человек впотьмах пытается попасть ключом в скважину.
Ядовитая пожилая вахтерша, которую мы - да простит нас господь - иногда
называли "Цербером", иногда "Цензором Феоктистовым"* - на мои вопросы
ответила, как всегда, довольно резко:
______________
* Литературный цензор-погромщик. Был морально уничтожен следующей
эпиграммой:
Островский Феоктистову
Затем рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал.
Автор эпиграммы - Островский, министр государственных имуществ, брат
драматурга.
- Я ему, душа моя, не мать. Не видала. Уехал куда-то. По утрам убираю,
подъезд мою, первую площадку, чтоб в свинушнике не сидеть. Потом здесь весь
день. Вечером Саня приходит. И он не видел. Собаки? Наверное, отвел, как
обычно... Ну, и что же, что не видели. Вон там черный ход во двор. Поэтому
даже я могу не заметить, как приходят или уходят люди. Но он им редко
пользуется. Двор не очень удобный.
Двор действительно был неудобен. Все эти сарайчики, закаморки,
безжизненные с виду голубятни, гаражи. И его гараж. Запертый на замок.
Неизвестно даже, пустой он или в нем машина. А за сарайчиками тот самый
пустырь и деревья возле парникового хозяйства. О, господи!
Я потащился домой, не зная, что и думать. Какой дьявол мог задержать
его в Вильно? Нашел что-то в архиве? Так мог бы и звякнуть.
В дурном настроении я вошел в свой двор и увидел Хосе-Марию
Лыгановского, который копался на клумбе под нашими окнами. Живая изгородь
вокруг цветника в одном месте поредела, и лекарь высаживал здесь какие-то
кустики. Медное лицо от воздуха и труда покрылось глубинным румянцем. Шляпа
лежала на скамейке, и всему двору была видна волнистая грива серебряных
волос.
- Историку-детективу персональный привет! - сказал он.
- Кондотьеру от психологии - взаимно, - буркнул я.
Он притоптал землю вокруг пересаженных кустиков, открыл поливной кран,
вымыл руки и, вытирая их носовым платком, - по-лекарски, палец за пальцем, -
бодро сказал:
- Закурим, сосед.
Здесь, в затишье, даже пригревало. Мы сели на скамейку, я распечатал
пачку и угостил его. Он следил за этим процессом внимательными серыми
глазами.
- Послушайте, - вдруг сказал он, - у вас случайно среди родственников
не было людей... ну, с некоторыми отклонениями в психике?
Позже, когда я, к своему ужасу, понял, что со мной действительно что-то
неладно, я часто вспоминал этот разговор и то, что заметил все это опытный,
искушенный глаз всем известного психиатра. Обратил внимание еще в то время,
когда даже я не замечал ничего. А тогда я только захохотал.
- Да нет! Все были здоровые, как пни.
- Вот и хорошо, - он затянулся с очевидным облегчением, - значит, это
просто психика холостяка. То же, что и у меня. И у Хилинского. У всех, нам
подобных.
- А что такое?
- Вы методичны в мелочах. Я вот был у вас. Все на своем, испокон веку
заведенном месте. Там бумага, там пепельница, там строго одно, а там - до
скончания века - другое. Пачку сигарет открываете именно так. Молоко -
только у одной молочницы. Цветы покупаете в киоске на Барской, хотя рядом
цветочный магазин. Бреетесь, наверно, тоже только у одного мастера.
- Угадали, - снова захохотал я, - а если его нет, то небритым уйду или
дома побреюсь...
- И банщик у вас только один. И не будете книгу читать, пока рук не
вымоете, а когда книга старая, обязательно вымоете потом. И раз в месяц
выбиваете ковер, а раз в две недели - пылесосите его.
- Слушайте, - удивился я, - откуда вы все это знаете?
- Я не знаю. Я "умозаключаю", делаю выводы.
- Но зачем?
- Профессиональная привычка. Поработали бы с мое.
- Ну, и какие же выводы?
- Вас они не касаются. Просто методичность закоренелого холостяка. У
таких в доме или кавардак и свинюшник, сапоги на столе или... А вообще это
иногда бывает признаком определенных отклонений в психике. При эпилепсии, в
начале некоторых других болезней.
- Ну, если так судить, то большинство немцев эпилептики. И вообще все,
кто как можно удобнее организует труд.
- Не смейтесь. Вот вам один пример, но убедительный - Достоевский.
- Весьма польщен, - сказал я.
Мы рассмеялись. Мог ли я думать, что мне в самом деле доведется
обращаться к нему. И довольно скоро.
На площадке я увидел Хилинского, как раз заходившего в квартиру.
- Опять что-то стряслось? - Он внимательно посмотрел на меня.
Я рассказал.
- Небось уехал куда-нибудь. - Адам был очень измотан. - Может, сидит в
том же Вильно. А что не предупредил о задержке, так этому разные могут быть
причины. Не маленький. И не такие уж вы друзья, что водой не разлить,
сорочки переменить некогда.
- Все же я единственный у него друг. И не мог он там где-то задержаться
хотя бы из-за болезни бывшей жены. Ведь он каждый день ожидал звонка. Я
страшно беспокоюсь, Адаме.
- Ладно. Если уж так, то я сейчас позвоню Щуке, - ведь мы приятели.
Пусть наведет справки, нет ли кого... неопознанного. И телефон твой
дам. Пускай тебе будет стыдно, как этот... твой друг... подсвечник виленский
привезет. Ну, шалопай и вертопрах, будь здоров. Позвоню, помолюсь богу и
завалюсь спать.
...Прошло еще два дня. Где-то в четверг или пятницу, пожалуй, часа в
четыре утра, а может, и раньше, зазвонил телефон. Испуганный спросонья, я
схватил трубку.
- Алло. Хилинский звонил от твоего имени, - прозвучал низкий голос.
- Да, - с трудом припоминая, о чем идет речь, ответил я. - Космич у
телефона.
- Нужна твоя помощь. Ты не мог бы подъехать для опознания?
- Конечно. - Голос у меня сел.
- Машина через десять минут будет у подъезда.
- Хорошо. Одеваюсь и спускаюсь вниз.
Дрожа со сна, от волнения и холода, в полном недоумении, что бы это
могло означать, я спустился по лестнице в промозглый туман, словно на дно
молочного озера. Спустя несколько минут из этого тумана вынырнули радужные,
размытые пятна фар.
После улицы в "козле" было жарко от мотора и как-то особенно сонно. Три
человека, ехавшие со мной, - правильнее, которые везли меня, - все время
надрывно и очень заразительно зевали. Пахло бензином, мокрым сукном и еще
чем-то. Человек лет пятидесяти, сидевший рядом со здоровенным шофером,
протянул мне теплую и сильную руку. Это и был Андрей Щука. У него были бы
обычные черты лица, "без особых примет", если бы не полдесятка шрамов на шее
и руках. Впрочем, не очень заметных. А его пожатие мне всегда нравилось, я о
многом сужу по рукопожатию.
Лейтенант, что примостился рядом со мной, отчего-то покраснел и сунул
мне холодноватую ладошку.
- Клепча... Якуб... Иванович... очень приятно.
Ну, этот был по крайней мере устойчив. И то слава богу.
Машина рванула с места, и только тут я заметил, что за нею слепяще
моргнули фары второй. Краем глаза я увидел, как к нашему кортежу
пристраивается один мотоцикл... второй.
Ощущение было удивительно неприятное. Я чуть было не начал думать, что,
может быть, все же выкинул в жизни нечто такое... что с точки зрения
уголовного кодекса... Потом, обозлившись на самого себя, я представил еще
большую глупость: что я резидент и еду тайно на встречу с шефом (господи,
сколько же это я насмотрелся дрянных фильмов!) в какой-то лесной дом. На
прием заморского посла это похоже не было: не хватало солнечного света и
почетного караула.
- Вот он и говорит продавцу... - Клепча, видимо, продолжал рассказывать
анекдот: - "А есть ли у вас оленье седло? Ведь магазин-то называется "Дары
природы". - "Нет, - говорит продавец, - есть нототения". То есть в смысле
рыба. "Ну, а лосятина есть?" - "Нототения есть". - "Гм, ну а хотя бы колбаса
домашняя есть?" - "Берите нототению, в ней фосфора много". - "Знаете что, -
говорит покупатель, - мне не надо, чтобы... светилось..."
Шофер коротко хмыкнул, Щука только головой покачал.
- За такие бородатые анекдоты при их миропомазанном величестве Николае
знаешь, что делали? Ссылали туда, где козам рога правят... На Аляску.
- Аляску к тому времени продали, товарищ полковник, - сказал Клепча.
Полковник на миг замялся.
- Да я не про того Николая говорю. Я про Первого. Твоему же анекдоту
хуже.
- А какая же тогда, Андрей Арсентьевич, нототения была?
- К сожалению, ты прав - не было. Пытливый ты человек, Клепча,
скрупулезный. Дока!
- Надо знать, Андрей Арсентьевич, иначе таких ошибок наделаешь...
- Ну, хорошо. - Щука повернулся ко мне, но почему-то только в профиль.
- Рассказывайте.
Я рассказал. Мне было не по себе. Я не разбирался ни в том, что
делается, ни в том, что они такое говорят, как не разбирался потом ни в
деталях опознания, ни в том, кто из них следователь областной прокуратуры, а
кто старший усиленной оперативной группы. Кое-как еще мог сообразить, что
вот это "проводник служебной собаки" - так, кажется, он называется, - да и
то потому только, что при нем была собака. В домино сыграть, выпить - это
можно, но что касается дела, то я хотел бы всю жизнь быть подальше от людей
их профессии. Потому что это только в плохих романах человек бьет в ладоши и
прыгает от радости по той причине, что к нему в дом каждый день повадилась
ходить милиция. На месте следователя я в таком случае обязательно
поинтересовался бы, а чего это он пляшет и рукоплещет? Но тогда и романа не
было бы! Потому что ящик с долларами обязательно нашли бы тут же, в клумбе у
этого весельчака, и не надо было бы присматриваться к подозрительному
поведению мальчика Пети и к тому, откуда пенсионер Синичка берет деньги на
ежедневные оргии с манекенщицами.
За стеклом машины, как на фотоснимке, постепенно стали проявляться
сквозь туман черные деревья. Туман плыл откуда-то волнами, наверное, с
низины. Машину начало бросать по корням. Потом она остановилась, деревья
кончились, и взору открылась огромная поляна в хаосе мглы, которая
шевелилась над нею.
Мы вышли, и только тут Щука спросил:
- Ну, а главная причина твоего беспокойства?
- Мне показалось, что вокруг замка есть царапины.
- Витя, - обратился Щука к мотоциклисту. - Отвези Степанца к квартире,
пусть дежурит там. Адрес? Вот по этому адресу. Отвези и сразу возвращайся.
Звук мотоцикла скоро заглох в ватной мгле, и снова стало тихо. Мы шли
по пластам слежавшейся, словно графитной, листвы. Я взглянул на часы, но
заметил не время, а то, как над рукавом пальто сновали, суетились
микроскопические капли тумана, ясно видные глазу на фоне темного сукна.
Край поляны. И я вдруг увидел у самых ног мелкие, беззвучные волны,
изредка лизавшие песок, и понял, что это не поляна, а озеро, густо окутанное
мглой. И сразу же все встало на свои места, я узнал, где нахожусь. И эту
кривую березу с шарообразным капом-наростом, и, немного поодаль, неясную
тень лодки на приколе, и толстый ствол черного дуба у воды. Узнал озеро
Романь, куда мы так часто приезжали рыбачить с Марьяном.
И тогда предчувствие огромной беды, даже уверенность в ней сжали мое
сердце.
Из тумана долетели глухие голоса, выплыли тени. Несколько человеческих,
одна собачья. Возле собаки стоял молчаливый человечек со смешным лицом. На
меня пока что никто не обращал внимания, и я пристроился к нему.
- Космич.
- Старшина Велинец, - сипло сказал он.
- А собака? - Я протянул руку. - У-у, соб-бака моя.
- Рам, - сказал кличку старшина и тихо добавил: - Не советую его
ласкать.
- Укусит?
- Бесполезно.
Мимо нас прошел полковник, и только теперь я вдруг понял, почему он
всегда старался держаться справа и показывал только профиль: у него почти не
было правого уха. Я знал, что в сорок пятом он попал где-то под Ошмянами в
руки банды Бовбеля. Веселенькая история. Допрашивал заместитель атамана, и
только потому ночью Щуке удалось убежать. Сам не выпустил бы.
Клепча сказал бы о Щуке: "Старый, изгрызенный, закаленный в битвах
волк".
- К нам он привык. А вы - свежий человек. Но это у него не от стыда.
Это чтобы дать привыкнуть.
Я удивился, что старшина заметил мое смущение, но не заметил, что мы с
полковником на "ты". Тут от группы людей долетели голоса, и я узнал их:
глухой голос лесника и звонкие дисканты двух детей.
- Сторожка моя тут... на берегу... Ну, приехал он...
- Он часто тут ловит, дядька.
- А мне что? Дети ходят в школу... - Глухой в тумане голос.
- Мы, дядька, зарослями шли, напрямки. Видим, машина стоит. - Это опять
голос мальчонки.
- "Запорожец" стоит, дядька полковник.
- День, значит, стоит пустая... И второй тоже... А на третий уже я
тревожиться начал. И лодку на воде увидал... в глубине заводи, холера на
нее.
Ветер постепенно начал вздохами сгонять с озера туман.
Четче проступили силуэты людей и что-то темное, длинное, лежавшее на
траве у их ног.
Над заводью, то поднимаясь, то снова опадая на воду, колыхалась кисея
тумана. Ее хотя и медленно, но относило, и все чаще сквозь нее проступало
пятно буя на воде, силуэт лодки, фигуры людей, которые, стоя в ней,
ощупывали баграми дно.
Я догадался, что это место происшествия.
- Подойдите, Космич, - сказал голос полковника.
Я подошел. С того длинного и темного откинули брезент. Я увидел, что то
лежит на пожелтевшей прошлогодней траве. Одежда была похожа, но лицо... Лица
не было. "Раки, что ли?" - мелькнула нелепая мысль. Меня начало мутить.
Еще раз вспыхнули блицы. Я отвернулся, и Щука, видимо, понял, что мне
плохо: тысячи трупов видел я на войне, но успел отвыкнуть, а тут еще это
был... нет, уже не был.
- Он? - спросил Щука.
- Лицо - сами видите. Одежда очень похожа. Конституция вроде точно его.
Извините, я должен отойти.
Я сел на пень. Я пытался что-то проглотить, а оно все торчало, сидело в
глотке. Нервы сдавали. Веселого было мало во всех этих событиях. От вас
уходит оскорбленная женщина. Ваш лучший друг погибает. Его слова, его
беспокойство...
- Ну что это вы как красная девица, - сказал лейтенант Клепча.
Я разозлился, и, странно, мне сразу стало легче.
- Вот что, лейтенант, - сказал я. - Если бы после такого переплета я,
скажем, спросил бы у вас, какого вы мнения о творчестве Первенцева или начал
остроумно трепаться о достижениях народного хозяйства страны - тогда меня
надо было бы немедленно брать под белы руки и везти в Новинки*.
______________
* Клиника для душевнобольных под Минском.
Клепча снова было открыл рот, но его оборвал Щука:
- Помолчите, Клепча. - И предложил мне: - Отойдем к машине.
Он, спасибо ему, хотел отвлечь мое внимание.
- Что было в его карманах? - спросил я.
- Каша из табака, хлеба, бумаги и прочего. Он курил?
- Последнее время очень мало. Что еще?
- Баночка с мотылем. Вот. И в лодке две большие щуки.
- Баночка его, - сказал я. - Но не мог он такую крупную щуку... И что
он вообще щуку на мотыля ловил? Чепуха какая-то!
- Спиннинг нашли, - долетел по воде голос из лодки. - Видимо, щука
затянула под корягу - удилище и утонуло.
- Ну, видите, - сказал Щука.
- Как это случилось? - спросил я.
- Упал из лодки в воду. Утонул. Как у него со здоровьем?
- Он был очень больной человек.
- Ну вот. Мог быть приступ.
Мы подошли к машине.
- Его "Запорожец", - после осмотра сказал я. - И все же не верю, что
это он. Да, машина, да, одежда. Но ведь лица... нет. Но ведь этот, кажется,
выше ростом. И потом, почему он поехал один?
Из леса, из тумана, вынырнул к машине Велинец с собакой.
- Рам следа от машины не взял, - сипло сказал он. - И не удивительно.
Столько дней! Снег еще лежал. Дождь слизал его. Видать, окончательно весна
пришла.
- Неужели бывают неопознанные? - спросил я.
Полковник не ответил.
...Еще через час мы возвращались к машинам. Тело забрали. Впереди шли
Велинец и Клепча и говорили уже о каком-то другом деле.
- Да пойми ты, - горячился Клепча, - материал такой же, из какого пошит
его костюм.
- Ну, ладно, - с иронией цедил Велинец, - костюм из материала, партию
которого украли. Тоже мне доказательство! Ну, а если бы, скажем, он был
когда-то полицаем, и с тайной надеждой в душе ожидал "взрыва народного
гнева", и на этот случай прятал в стрехе арсенал - он что, ходил бы тогда по
улицам и площадям с пулеметом в руках? Чепуха! Материал его и оправдывает.
Да и его характер. Наверное, самое большое преступление в его жизни - у жены
из ящика стола когда-нибудь стащил три рубля на водку.
А меня трясло. И от внезапного сознания непоправимости происшедшего, и
от горя, и от какой-то неясной надежды, и от злости на этих, которым все
равно, которые так быстро все забыли, переключились со смерти человека на
какой-то материал и еще шутят.
...В маленьком местечке Чурсы остановились перекусить. Я смотрел на эти
полсотни домов, игрушечную чайную, флигель от разрушенного в войну дворца,
на гигантские, туманно-мокрые, черные деревья старинного парка и вспоминал,
как летом мы ходили здесь с Марьяном и собирали на приманку улиток. Их было
несметное количество на берегах многочисленных зеленых прудов, в росистой
прохладной траве. Я нигде не видел их столько. И таких огромных, с яблоко
величиной. "Француз бы ополоумел от радости", - сказал тогда Марьян. И вот я
смотрел и вспоминал, и у меня что-то жгло глаза и в груди.
- Есть лосятина, - прибежал Клепча, - видать, кто-то убил по лицензии и
сдал в чайную. Повезло, в Минске не достанешь.
- Как в лучших домах Лондона, - сказал Велинец.
В чайной все разместились под скверной копией с картины "Томаш Зан* и
Адам Мицкевич на берегу Свитязи".
______________
* Зан Томаш (1796-1855) - польский поэт-романтик.
- Обожаю оленей, - сказал Клепча, уписывая мясо.
- Угу, - поддержал Щука, - еще со времен диснеевского Бэмби в кино.
Удивительно красивое и благородное существо. Нежное, мягкое.
Я есть не мог. Заказал двести граммов "Беловежской", тяпнул их одним
махом, будто последний алкаш, и закурил, ощущая, как потихоньку согревается
мое нутро.
Я понимал, что несправедлив, что это их каждодневная работа, - и не
умирать же им с голода, - и все равно презирал их. И потому немало удивился,
когда полковник пошел и принес себе и мне по сто пятьдесят, сел и вдруг тоже
оттолкнул тарелку.
- Не могу. За столько лет не могу привыкнуть. Выпьем, Антон Глебович. -
И после паузы: - Ненавижу сволочей... Пока не подохну...
В этот момент Клепча заметил на картине у Зана бакенбарды и вдруг
сказал:
- А чего это здесь Пушкин? Разве он был на Свитязи?
- Это Зан, - наверное, слишком резко сказал я.
- Ну, а этот... Зан... разве он...
- Помолчите вы, пожалуйста, - снова оборвал его Щука и только теперь
ответил на мой вопрос, заданный еще на Романи: - Бывает и так, что не
опознают. Редко, но бывает... Дай бог память, в 63-м или 64-м году писатель
ваш один, ну, из этих, молодых да ранних, еще романы исторические пишет,
плыл с родственниками по Днепру возле Рогачева. Видит, что-то розовое
плывет. Подумал, необычной величины глушеная рыба (вот надо бы этих
"шахтеров" из Бобруйска, что ездят рыбу глушить, прижать хорошенько!). Встал
на носу и вдруг рулевому: "Вороти!.." Плывет навзничь женщина в розовой
комбинации. Ну, вытащили, приехали наши за трупом... Но и до сих пор
неизвестно: кто, откуда, как? Может, откуда-то с Урала в неизвестной
компании приехала, а может, с Камчатки. Может, утонула, а может... Но
всплывет. Так или иначе, а она всплывает, рано или поздно, правда. Так что и
ты, парень, не скули. Тяжело, понятно. Но утешься хотя бы тем, что если это
убийство, они получат сполна. А уж мы постараемся, все перетрясем.
- Что же, - сказал Клепча, - всю Белоруссию вверх ногами перевернешь?
Всех родственников перетрясешь? А те, может, из Эстонии?
- А мы и эстонских перетрясем, - сказал Щука. - Кстати, возьми
прижизненное фото да поезди по пригородам. Может, кто-нибудь видел этого
человека в компании с кем-то знакомым... накануне.
- А по тому фото? На берегу?
- По тому фото люди подумают, что показываешь актера Овсянникова* в
роли тени отца Гамлета. Думать надо, хлопец.
______________
* Овсянников Геннадий Степанович (род. 1935) - известный белорусский
комический актер.
Когда машины снова мчались по плиточному шоссе аллеей трехсотлетних
могучих ясеней и вязов, Щука вдруг спросил:
- А что за книга, о которой ты говорил?
Я рассказал.
- Показать не можешь? Ага, тогда заедем к тебе домой. А потом... может,
с нами на его квартиру съездишь?
- Да... Слушай, он ведь тревожился! Он говорил о какой-то связи с тем
старинным преступлением!
- Это могли быть просто нервы. И потом, если бы мы занимались всеми
преступлениями, содеянными за миллион лет с того времени, как обезьяна стала
человеком, то кому было бы разбираться, кто украл у товарища Раткевича
авторучку?
Его грубоватый тон, как ни странно, немного успокаивал меня.
- Так что старинным преступлением займись ты. Ты знаток, историк, тебе
и карты в руки. А найдешь что-нибудь любопытное для сегодняшнего дня - тут
уже мы всегда к твоим услугам.
- Ты вроде грошового критика, которому подавай сочинения только на
злобу дня. А для этого газеты есть.
Мы заехали ко мне, взяли в портфель книгу и покатили к парниковому
хозяйству.
И снова была аллея из наполовину уничтоженных лип, и старый дом, и
барочные ворота кладбища. На дне спущенных прудов накопилась мутная весенняя
вода. А во мне все еще жила робкая надежда, что вот позвоним, вот в глубине
квартиры прозвучат шаги, щелкнет замок и заспанный Марьян скажет:
- А знаешь, что считалось у наших предков дурным тоном?
Но никто не выходил на звонок. Мы стояли и долго ожидали, и я слышал,
как Цензор Феоктистов, вредная вахтерша, отвечает Клепче:
- Два дня назад послышалось - замок звякнул. Гляжу - человек. Но дверь
закрыта. Спрашивает: "Что, там никого нет, бабуся?"
- Какой он хоть с виду, человек этот?
- А такой... ну... вроде немного городской, а вроде и не городской.
Наконец, привели понятых, открыли дверь. И надежда моя сразу
улетучилась, а предчувствие беды превратилось в уверенность.
Эльма неподвижно лежала на полу. Здоровенный тигровый Эдгар, увидев
меня, жалко вильнул задом. Глаза у него были несчастные и слезились, и он
сразу закрыл их. Даже не поднялся навстречу.
В прихожей стоял какой-то резкий и тошнотный запах.
- Он не ездил ни в какое Вильно, - уверенно сказал я Щуке, - иначе бы
отвел собак. Он и не думал уезжать больше чем на один день.
- Собак усыпили, - сказал Щука.
- В тот же день усыпили. Видишь, остатки еды. И вода не выпита. Но как
могли усыпить на столько дней?
- Может, что-то искали? Если за один день не нашли, могли повторить
дозу.
- Но это воспитанные псы. Они ничего не возьмут из чужих рук. Только у
Марьяна... и у меня.
- Кроме воздуха, которого ни из чьих рук брать не надо. - Щука указал
на замочную скважину.
- Я знаю, что они искали. - И я достал из портфеля книгу.
- Что же, давай присядем здесь, - Щука указал на длинный ящик для
обуви, - чтоб не мешать. Займитесь квартирой, лейтенант.
Мы сели на ящик и начали внимательно листать старый том. Но что можно
было заметить за такое короткое время, если я целыми днями просиживал над
ним?
- Возьми, - сказал наконец Щука, - думай и дальше. Это не нашего ума
дела. Возможно, какая-то сложная головоломка. А возможно, и все просто.
Ценность книги большая?
- Да.
- Так, может, и нет никакой загадки?
- Хочешь сказать, что цена человеческой жизни не выше цены этого хлама?
- Есть такие, с твоего позволения, люди, для которых жизнь ближнего не
стоит и гроша.
- Зайдите, - сказал Клепча, - посмотрите своим глазом, чего не хватает
в квартире?
Я зашел. Обыск, по-видимому, уже был окончен. Лишь один из группы еще
перебирал бумаги в ящике стола. По-прежнему летали под потолком ангелы,
по-прежнему Юрий попирал ногой змея. Только Марьяна не было. И больше не
будет.
- Не хватает двух картин, - глухо сказал я.
- Тогда, значит, о книге и разговора нет, - сказал Клепча. - Может, и в
самом деле барыги-спекулянты. Не выгорело, и все. Такая история,
рассказывали, была недавно в Москве, на улице Качалова.
Уговаривали-уговаривали продать - не продал, ну и все окончилось на этом...
А вот картины - это интереснее.
- Товарищ полковник... - Человек в штатском, что копался в ящике стола,
протягивал Щуке лист бумаги. - Это, пожалуй, интереснее картин.
Щука прочитал и передал бумагу Клепче. Тот пробежал глазами, свистнул и
посмотрел на меня. Затем протянул лист мне. А когда я, в свою очередь,
прочитал то, что там было написано, у меня заняло дух.
Это было по всей форме составленное и заверенное у нотариуса завещание,
по которому гражданин Марьян Пташинский на случай внезапной смерти завещал
все свое имущество другу, гражданину Антону Космичу, с условием, чтобы
упомянутый Космич содержал бывшую жену вышеупомянутого Пташинского на всем
протяжении ее болезни.
- Что у нее? - спросил Щука.
- Рак, - ответил я, - лежит в Гомеле.
- Значит, иной смысл этого "на протяжении болезни" - до смерти, -
сказал Клепча.
- Ну, зачем же так, - возразил Щука. - Позвоните, Клепча, к нам, пусть
наведут в Гомеле справки о состоянии здоровья... как ее?.. О состоянии
здоровья Юлии Пташинской.
Не успел лейтенант положить трубку, как в дверь позвонили, и сердце мое
снова сжалось от маловероятной, внезапной надежды. А потом тупо заболело,
потому что это был всего лишь тот человек с чемоданчиком, которого я видел
на берегу Романи. Я догадался, что это, должно быть, медицинский эксперт.
- Это вы, Егор Опанасович? - удивился Щука.
- Хотел, чтобы быстрее узнали результаты вскрытия, а мне по дороге, ну
и...
- Что же обнаружено?
- Никаких следов насильственной смерти, - сказал низенький румяный
лекарь.
- А кто же его, - ангел божий?
- Возможно. У него два микро - и один инфаркт. Сердце сдало - вот
причина. Наверное, стоял в лодке и тут случилось. Упал в воду и захлебнулся.
- Почему же он поехал один?! - в отчаянии крикнул я.
- Его дело, - буркнул Клепча.
- Ясно, что его. И никогда, никогда он не берегся! Никогда!
- Какие картины пропали? - спросил Щука.
- Вот это и подозрительно, - ответил я. - Если бы крали, то взяли бы
другие. Эту. Эту. Ту. Им цены нет. А те две - совершеннейшая чепуха, только
что не новые. "Христос в Эммаусе" немецкой школы конца прошлого века и
английской - "Кромвель у могильной ямы Карла I". Эту он в Киеве в ГУМе купил
сразу после войны.
- Помню я эту картину, - вдруг сказал Щука, - долго она у них на стене
висела. Немного поврежденная внизу. Кромвель в паланкине сидит.
Я вытаращил глаза:
- Ну и память!
- Память профессиональная.
- Точно. Порвана была. Он ее сам и чинил, ремонтировал. Огромные дуры,
яркие. "Кромвель" этот "под Рембрандта наддает". Он эти картины не ценил.
- Может, не разобрались? - спросил врач. - Увидели, что большие, в
глаза бросаются - ну и взяли.
- А почему тогда не взяли еще что-нибудь? - спросил вдруг человек в
штатском. - Вот деньги. И много что-то денег.
Денег было восемьсот двадцать рублей.
- Может, спешили? Не знали? - спросил Клепча.
- Эти барыги по искусству, - сказал я, - хотя бы кое-что да понимают.
Не взяли бы они этих картин. Может, тут совсем другое: не ценил и поэтому
продал. Ему для жены были нужны деньги.
- Резонно, - сказал Щука, - пускай наши поищут по антиквариатам.
...За окном уже лежали сумерки, и мы собирались идти, когда зазвонил
телефон. Клепча снял трубку.
- Да... Да... Спасибо.
- Что такое? - спросил Щука.
- Звонили от нас. Юлия Пташинская умерла пять дней тому назад...
Вид у него был на удивление многозначительный. И он смотрел на меня.
- ...и как раз в предполагаемый день смерти мужа. Любопы-ы-тно. Может,
и картины... для отвода глаз.
Кровь бросилась мне в лицо. Только теперь я понял, как можно расценить
все это нелепое, страшное стечение обстоятельств.
- Послушайте, Клепча, не будьте быдлом!
- Ну-ну.
- Он прав, Якуб, - сказал Щука. - Это был его самый лучший друг.
- Единственный и навсегда, - глухо сказал я. - И я до конца дней
работал бы только за хлеб, чтобы отвоевать для него хотя бы год жизни. А
если вы считаете меня таким чудовищем, которое может убить брата за полушку,
то знайте: все, что здесь есть после смерти Марьяна, должно быть передано
музею на его родине.
- Кому это известно? - уже иным голосом спросил Клепча.
- Мне это известно. Если я тут чем-то и разживусь, так вот этими двумя
собаками. При моем образе жизни они мне вовсе не нужны, но я их не брошу, я
их буду держать, пока не умрут... в память...
У меня сдавило горло от обиды и неприязни к этому человеку. И снова
меня спас Щука, иначе все могло бы окончиться черт знает чем.
- Берите собак и несите в машину, - буркнул он. - Подсоби, Клепча. И
замолчи, наконец, черт бы тебя побрал... Извини, Космич. Я сейчас подброшу
тебя с псами домой. Квартира же будет несколько дней опечатана. Потом
получишь ключ, чтобы распорядиться имуществом. Достану машину, и сможешь
перевезти все, как завещал покойный.
- Покойный, - повторил я, - значит... нет надежды, что не он?..
- Нет, - ответил Щука. - К сожалению, нет.
Когда мы привезли ко мне собак - Эльма все еще не проснулась, и я волок
ее на руках, тяжелую, как телушка, - он отпустил машину и вдруг сказал:
- Там, рядом с рестораном, у вас что, кафе? И садиться не нужно?
- Не нужно. И за мной еще долг чести.
Он молча взял меня под руку. И только когда мы уже стояли у стойки и
прихлебывали кофе с коньяком, сказал неожиданно мягко:
- Плачет душа? Я это знаю. Сам дважды пережил такое... Так вот, Антон,
если что-нибудь вспомнишь или найдешь, - ты скажи Хилинскому. Мы ведь
друзья, он меня проинформирует. - И вздохнул. - Ведь я же понимаю, мало
радости человеку, да еще впечатлительному, таскаться по нашим учреждениям.
Он положил мне руку на плечо.
- А на Клепчу, хлопец, не сердись. Он еще молод, глуп, жестковат по
молодости. Зарывается, как щенок-выжлец. Жизнь его не била, не ломала. Вот
ломанет, как нас с Адамом, тогда будет знать цену доброте и доверию к тому,
к кому надо. Убедится, какое это облегчение, когда никто во второй раз не
бьет тебя дубиной по голове.
�ГЛАВА VI�
Короткая. О седом антикваре и "барыге"
Мне все же пришлось зайти к Клепче, хотя для меня это было хуже смерти.
Случилось так, что вечером следующего дня он позвонил и ласково
проинформировал, что ни в одном комиссионном магазине города исчезнувших
картин - простите - нет и что, значит, имела место кража. И, стало быть, все
было просто.
- Нет, не просто, - сказал я в трубку. - Не знаю, как с его смертью, но
он не поехал бы на Романь, ожидая вестей от жены. Могли воспользоваться
отсутствием. Потому что кто-то обещал за евангелие большие деньги. Искали
его, не нашли, прихватили, что попалось под руку, вот и все. А могли и убить
каким-то неизвестным способом.
- Так что бы вы посоветовали, уважаемый Антон Глебович?
- Я знаю? Я стал бы искать того, кто умолял продать ему книгу, может,
он и подговорил взломщиков.
- А может, в самом деле схватило сердце, упал, захлебнулся? А квартиру
ограбили потом?
- Ваши гипотезы, вы и проверяйте.
Я положил трубку. Со времени обыска я выносить его не мог за одно
только подозрение ко мне.
В эти дни я сделал одно открытие. Вертел книгу и так и этак и нашел в
двух миниатюрных "красных буквах", - словно бы вплетенные в завитки, в
листики, цветы и узоры, - инициалы. Может, мне это и показалось, но как
иногда видишь в пятне на стене портрет или пейзаж, так видел и я в двух
миниатюрах инициалы ПДО - Петро Давыдович Ольшанский, ВФО - Витовт Федорович
Ольшанский. Это, кажется, подтверждало факт, что евангелие принадлежало им,
но я не знал, чем этот так называемый факт может мне помочь. Ну, скажем, мог
быть такой побудительный мотив, как похищение фамильной ценности. Но где
теперь, кто они, дьявол их возьми, отпрыски того рода? Скорее всего, мотив
был единственный - спекуляция.
И вот спустя два дня "уважаемый пан детектив" Клепча позвонил мне и
вежливо пригласил к себе. Сами понимаете, что это было не то приглашение,
которое можно игнорировать. Я явился и увидел в уютном таком кабинетике две
картины, прислоненные к стене.
- Они?
- Они. Видите, на оборотной стороне "Кромвеля" заштопан след
повреждения?
- Его почерк? - Он протянул мне квитанцию.
- Почерк не его. Подпись его.
Он покраснел. Люди подобного типа не любят, когда им дашь понять, что
они употребляют не те слова и неправильной речью искажают смысл. Мне и
помолчать бы, но очень уж он мне опротивел.
Потом я имел еще два приятных знакомства. Одно с седеньким дедком -
антикваром, этакой носатой птичкой с удивительно элегантными и подвижными
ручками. Второе - со здоровенным, выхоленным верзилой, этаким щеголем в
сером костюме из мягкой дорогой шерсти. И галстук подходил к этому костюму,
и серебряный старинный сыгнет*, именно сыгнет, а не перстень. Не подходили
только усики вышибалы, но это уже зависит от вкуса каждого человека.
______________
* Старинный перстень с печаткой или фамильным гербом, что в сочетании с
понятием "барыга" вызывает чувство некоторого изумления. Ибо это так же
странно, как "знать, не помнящая родства" (лат.).
- Так я же вам и говорю, - горячился дедок, - что тут и графической
экспертизы не надо. Это рука Пташинского - я хорошо знаю.
- Слова, - сказал Клепча.
- Что слова?! Что?
- Слова, говорю, слишком специфические знаете.
Тут он мне впервые понравился. Но дедок взвился:
- Криминальные романы пишете?! Детективы печатаете?! Так что вы хотите,
чтобы люди не знали специфических выражений? А что касается того, что вы
картин не видели в салоне, так я таки главный антиквар и был в отъезде, а
квитанцию спрятал, а картины на складе были. И вот их выставили, что?! Вы же
видите, когда они сданы.
- За два дня до смерти, - сказал Клепча, - вот почему было много денег.
Слушайте, а вы это точно знаете, кто звонил Пташинскому насчет книги?
- Ну, как же иначе? Ну, разве я что? Конечно, точно! Спросили бы меня с
самого начала, и не понадобилось бы тех глупых подозрений, разве не так?! И
он был рад сказать с самого начала. Вот он хотел купить, Борис Гутник! Уже я
что, Борю не знаю, чтоб не знать, кто хотел купить?
- Почему хотел купить?
- Книголюб. А что, нельзя?
- Торгует книгами?
- Так я же не слышал. Иногда меняет.
Привели и Борю, того самого выхоленного верзилу.
- Я звонил, - спокойно признался он, разглядывая ухоженные ногти. -
Только никакого шантажа не было. И никакого "человека деревенского вида",
который был на книжной выставке, не знаю. Да, раза три звонил. Все надеялся,
что передумает... Ну, просто хотел иметь эту книгу.
- Для работы?
- Не все, кто любит книгу, используют ее для работы. Я просто люблю
книгу. А вы разве нет?
Хотел бы я видеть человека, который в наш просвещенный век признался
бы, что он терпеть не может книг. Хоть до этого мы, слава богу, доросли.
Клепча смутился, а молодой верзила продолжал весьма серьезно:
- Это единственная моя страсть, товарищ лейтенант. За это, по-моему, не
судят. И если уж "книги суть реки, напояющие вселенную", то как можно
обвинять того, кто жаждет и пьет? Да, звонил, не хотел выпускать из рук.
- Вам не случалось торговать книгами? - спросил Клепча.
Гутник полез в карман пиджака и достал газету.
- Это еще зачем?
- Сегодня как раз, идя сюда, получил. Белостокская "Нiва"*. Видите,
благодарность за то, что передал в библиотеку двести пятьдесят книг. Если бы
торговал, вряд ли сделал бы такое. Как только насобираю хороших книг, менее
ценные отдаю. Можете проверить.
______________
* Белорусская газета, издающаяся в ПНР.
- А мы и проверили, - сказал Клепча, - тут вы не лжете, все правда. И
здесь отдавали, и в Витебске, и польским белорусам.
Я не знал, зачем Клепча держит при этих допросах меня. Попросил
разрешения закурить, раскрыл пачку.
- Дайте и мне, - попросил вдруг верзила. - Спасибо. Что за сигареты?
"БТ"? Курильщик из меня никудышный, но, понимаете, разволновала меня эта
история.
Неумело затянулся, даже щеки к зубам прилипли, и, указывая на газету,
сказал как будто в пространство, но с очевидным желанием уесть Клепчу:
- Имя напечатали. Культурные люди. А тут и собака не скажет спасибо.
Этот человек начал вызывать к себе расположение. Даже его усики уже не
казались мне фатовскими.
Идя домой, я думал, что и последние косвенные доказательства рухнули.
Ничего не дало вскрытие, ничего не дало исчезновение картин. Ни в квартире,
ни на месте, где погиб Марьян, не было найдено никаких следов. Насчет книги
звонил ни в чем не повинный книголюб, да и неизвестно, книгу ли искали
взломщики, усыпившие собак.
...Прошла неделя. Никто мне не звонил, никто не вызывал меня, и по этим
приметам я понял, что следствие по делу преждевременной смерти Пташинского
скорее всего зашло в тупик.
�ГЛАВА VII�
Что было сказано в "Новом завете"
и какую тайну запрятал в "Апокалипсисе"
Иоанн Богослов
Работать я не мог. Развлекаться - тоже. Неотвязные мысли о Марьяне и
его неожиданной кончине мучили меня днем и ночью. Оставалось одно: тупо и
упрямо сидеть над его книгой и думать, думать, думать. Думать без всякой
надежды до чего-то додуматься, без всякой надежды свести концы с концами.
Единственное, что было в ней не напечатано, - это маргиналии*, комментарии
скорописью. Чаще всего они носили мистический характер наподобие: "Сбылось
при короновании" или "Справдилось в вещем сне такого и такого".
______________
* Пометки на полях (лат.).
Мне уже давно хотелось плеваться, и все же...
В тот вечер я решил сделать последнюю попытку.
Под зеленым абажуром горела очень сильная лампочка. Свет бил мне в
глаза, и потому я опустил колпак пониже, чтоб свет падал только на книгу. То
ли я измотался, выдохся за последние дни, то ли подействовала тишина, но я
на миг задремал и, по-видимому, осунулся в кресле. А когда открыл глаза, еще
затуманенные сном, то увидел на левой странице книги едва заметные темные
точки. Поднял голову - они исчезли. Опустил - появились снова. И тогда я
понял, что вижу не точки, а чуть заметную "тень от точек", от каких-то
шероховатостей бумаги. Закрыл глаза, провел кончиками пальцев и почувствовал
их на ощупь. Я перевернул страницу и увидел, что этим невидимым
микроскопическим выпуклостям, которые и давали похожую на россыпь соринок
тень, соответствовали вмятинки, сделанные, возможно, тупым концом иглы.
Позже я убедился, что в этом месте они были еще крупнее. Если бы не
случайное стечение обстоятельств, если бы не это низкое местонахождение
источника света и моих глаз, я так бы ничего и не узнал. Но только это и
было везением. Потом пришла очередь умения.
Эти вмятинки были размещены без всякой системы. Я насчитал девять таких
под буквой А, десять под буквой С и так далее. Если это и была тайнопись, то
такая, которую не разгадаешь. Криптограмма? Анаграмма? А черт его знает, как
назывался этот способ в средние века. Хоть ты зарежь, вылетело у меня из
головы название этого метода шифровки. Но я вам объясню суть. Патентного
бюро тогда не было, бюро открытий тоже. И вот, скажем, ученый делал какое-то
открытие, но хотел иметь еще немного времени, чтобы его проверить. Только
как было это сделать, чтобы открытия не перехватил кто-то другой, чтобы
потом можно было доказать свой приоритет? Тогда он зашифровывал изобретение.
Оно, к примеру, заключалось в одном предложении: "У шефа длинный,
красный от вина нос". Неудачный пример, потому что здесь пришлось бы
шифровать совсем по иной причине, не по научной, а по административной, но
ладно.
И вот наш ученый муж выписывал, сколько раз встречается та или иная
буква, и записывал так: у-1, а-3, ы-2, и-2, и-2, е-1, о-2, ш-1, н-5, ф-1,
л-1, д-l, p-1, к-1, с-2, т-1. Или: уаааыыииййеоо и т.д.
Если человек умирал, тайна о шефовом носе умирала вместе с ним. Не
знаю, может ли в таком случае помочь даже самая сложная электронная машина с
бесчисленным количеством испробованных вариантов.
Тот, кто что-то открыл, заверял шифровку у нотариуса, рассылал другим
крупным ученым и потом спал спокойно, зная, что никто этого не разгадает,
что участок застолблен.
А вообще-то был факт, когда, кажется, Галилей, я не астроном и потому,
быть может, рассказываю вам легенду или в чем-то искажаю действительное
событие, но суть истории была приблизительно такова, и я об этом где-то
читал, - так вот, Галилей застраховался таким образом и чуть ли не Кеплер не
поленился перебрать все возможные варианты и подстановки букв и заявил, что
зашифрованное предложение звучит так: "Привет вам, близнецы, Марса
порождение!" А если это так, то Галилей открыл спутники Марса. Было, правда,
несколько лишних букв, кажется, три, но тогда и это специально делали, ради
большей уверенности.
Спустя какое-то время Галилей все проверил и выступил с сообщением, что
смысл его открытия, если отбросить шесть лишних букв, такой: "Высочайшую
планету тройною наблюдал".
Выяснилось, что он открыл кольца Сатурна.
Но я никогда не был Галилеем и никогда не буду Кеплером, да и черт его
знает, где набраться терпения на два года подстановок и вариантов, чтобы
потом выудить любопытнейший факт, что у жены такого-то ноги кривые и
волосатые.
Поэтому я подумал, что вмятинки могут быть и на других листах и что я
их просто не углядел. Эти я приметил на первой странице апокалипсиса, и, по
логике вещей, можно было предположить, что и остальные, если они есть, будут
сделаны неизвестным шифровальщиком на первых страничках каждой книги.
Часа два заняло просматривание на свет, пока я не добрался до "Нового
завета". И тут я заметил...
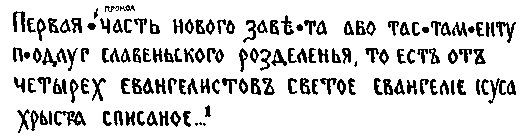 ______________
* Первая (. - прокол над буквой я) часть нового заве (. - прокол) та
или тас (. - прокол) таменту, по (далее в русском переводе места проколов не
указываются) славянскому разделению, то есть от четырех евангелистов святое
евангелие Иисуса Христа списанное (здесь и далее по главе подается перевод с
древнего белорусского языка).
Я выписывал буквы. Что-то получалось.
______________
* Первая (. - прокол над буквой я) часть нового заве (. - прокол) та
или тас (. - прокол) таменту, по (далее в русском переводе места проколов не
указываются) славянскому разделению, то есть от четырех евангелистов святое
евангелие Иисуса Христа списанное (здесь и далее по главе подается перевод с
древнего белорусского языка).
Я выписывал буквы. Что-то получалось.
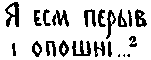 ______________
* Я есмь первый и последний...
(Это значит первы, первый - автор напутал, потому что текста книги не
хватало).
Меня подмывало взяться за апокалипсис. Как-то подсознательно я
предполагал, что основная часть тайнописи там, что мозг средневекового
человека обязательно должен был бы проводить какую-то параллель между своей
тайной и таинственностью "Откровения", что он должен как бы соревноваться в
непонятности с апостолом Иоанном.
Вы уже знаете, что под общей обложкой были переплетены без всякого
порядка и без какой бы то ни было системы книги совершенно разного
содержания. Наконец, я добрался до "Статута" 1580 года.
______________
* Я есмь первый и последний...
(Это значит первы, первый - автор напутал, потому что текста книги не
хватало).
Меня подмывало взяться за апокалипсис. Как-то подсознательно я
предполагал, что основная часть тайнописи там, что мозг средневекового
человека обязательно должен был бы проводить какую-то параллель между своей
тайной и таинственностью "Откровения", что он должен как бы соревноваться в
непонятности с апостолом Иоанном.
Вы уже знаете, что под общей обложкой были переплетены без всякого
порядка и без какой бы то ни было системы книги совершенно разного
содержания. Наконец, я добрался до "Статута" 1580 года.
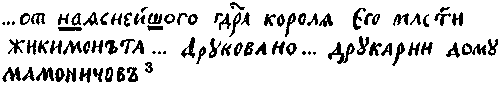 ______________
* ...от наияснейшего государя короля его милости Жикгимонта...
печатано... печатне дома Мамоничей. (Мамоничи - купцы и общественные деятели
Великого княжества Литовского, при доме которых в 1574-1623 гг. в Вильне
существовала типография).
Нашч...*
______________
* Нашч... - "Потом..."
Я ползал по этим строкам, буквам и ударениям, слепя глаза низким светом
очень сильной лампы.
______________
* ...от наияснейшего государя короля его милости Жикгимонта...
печатано... печатне дома Мамоничей. (Мамоничи - купцы и общественные деятели
Великого княжества Литовского, при доме которых в 1574-1623 гг. в Вильне
существовала типография).
Нашч...*
______________
* Нашч... - "Потом..."
Я ползал по этим строкам, буквам и ударениям, слепя глаза низким светом
очень сильной лампы.
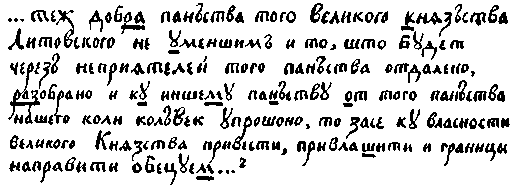 ______________
* ...тоже добра государства того великого княжества Литовского не
уменьшим и то, что будет через неприятелей того государства удалено
(отнято), разобрано и к иному государству от того государства нашего
когда-нибудь упрошено, то (мы) же (вновь) к собственности великого княжества
привести, присвоить (присоединить) и границы исправить обещаем.
...атку разумному*.
______________
* ...атку разумному - Потом... ку разумному.
Меня охватила какая-то ярость, какое-то исступление, какой-то бешеный
азарт. Все же это была шифровка начала XVII столетия. Еще был жив Лев
Сапега, еще не нахлынули шведы, еще древний язык звучал, звучал в полный
голос и в правительстве, и в суде. И постепенно на отдельном листе возникли
выписанные мной слова.
______________
* ...тоже добра государства того великого княжества Литовского не
уменьшим и то, что будет через неприятелей того государства удалено
(отнято), разобрано и к иному государству от того государства нашего
когда-нибудь упрошено, то (мы) же (вновь) к собственности великого княжества
привести, присвоить (присоединить) и границы исправить обещаем.
...атку разумному*.
______________
* ...атку разумному - Потом... ку разумному.
Меня охватила какая-то ярость, какое-то исступление, какой-то бешеный
азарт. Все же это была шифровка начала XVII столетия. Еще был жив Лев
Сапега, еще не нахлынули шведы, еще древний язык звучал, звучал в полный
голос и в правительстве, и в суде. И постепенно на отдельном листе возникли
выписанные мной слова.
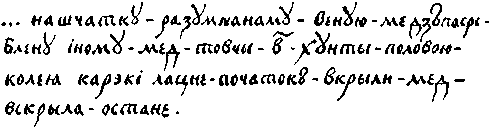 Он специально писал слова слитно, этот шифровальщик. Однако здесь он
допустил одну присущую всем людям ошибку: писал буквы наиболее густо там,
где слова делились. Я проверил, где стоит Ъ после согласной, и убедился, что
это так. И тогда я стал делить предложение на слова и одновременно
переводить его на современный белорусский язык. Мешало то, что неизвестный
любитель тайн специально нарушал современную ему белорусскую грамматику,
чтобы тяжелее было догадаться. А возможно, он недостаточно хорошо знал ее.
Но ведь совсем отступить от нее он не мог. Он все равно в той или иной мере
оставался в ее плену.
Он специально писал слова слитно, этот шифровальщик. Однако здесь он
допустил одну присущую всем людям ошибку: писал буквы наиболее густо там,
где слова делились. Я проверил, где стоит Ъ после согласной, и убедился, что
это так. И тогда я стал делить предложение на слова и одновременно
переводить его на современный белорусский язык. Мешало то, что неизвестный
любитель тайн специально нарушал современную ему белорусскую грамматику,
чтобы тяжелее было догадаться. А возможно, он недостаточно хорошо знал ее.
Но ведь совсем отступить от нее он не мог. Он все равно в той или иной мере
оставался в ее плену.
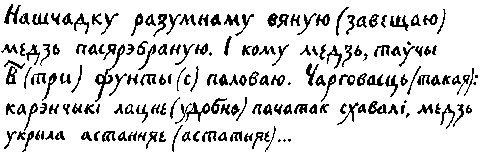 Не слишком это было понятно, но какой-то смысл намечался. Ну что же,
дальше, дальше.
Не слишком это было понятно, но какой-то смысл намечался. Ну что же,
дальше, дальше.
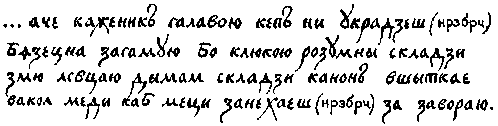 Чтоб ты сгорел со своей шифровкой, холера! Но ничего не поделаешь,
поползешь дальше, хотя наши ученые так и не удосужились за сто лет
исследований составить относительно полный словарь старобелорусского языка
(словарики в конце некоторых исторических работ в счет таковых не входят, да
и стоят немного).
Чтоб ты сгорел со своей шифровкой, холера! Но ничего не поделаешь,
поползешь дальше, хотя наши ученые так и не удосужились за сто лет
исследований составить относительно полный словарь старобелорусского языка
(словарики в конце некоторых исторических работ в счет таковых не входят, да
и стоят немного).
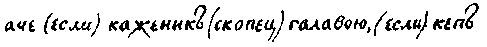 Почему-то мне пришло в голову венгерское кер, и совсем не подумалось,
что и по-польски дурак - kiep. Вот я и оказался тот самый - кепъ.
"Ежели скопец головою, дурень, (то) не украдешь (нрзбрч.) подло.
Загамую (задержу), ибо клюкою (здесь недоставало слова, но можно было
догадаться, что "клюкою" - ключом хитрости или ума). Разумный, (то) сложи
змеею, лестницею, дымом..."
Дымом? При чем тут дым?!
"Канонъ (то бишь накануне, а может, в значении сначала) вшыткое (все
целое, все до конца) вокруг меди, занехаешь (не обратишь внимания, выпустишь
из вида) (нрзбрч.) за заворою (за завалою)".
Потом я попытался перевести все это на белорусский современный язык, по
возможности упростив текст. Получилось, за исключением темных мест, так:
"Я, первый и последний, потомку разумному завещаю медь посеребренную.
Иному медь толочь, в три фунта (с) половиной. Очередность такая: корешки
удобно начало спрятали, (а) медь скрыла остальное. Ежели (ты) скопец
головой, дурак, (то) не украдешь (нрзбрч.) подло. Удержу (бо) тебя ключом
(хитрости?). (Ежели) разумный (то) сложи змеею, лестницею, дымом... Сложи
поначалу все целое вокруг меди. Не обратишь внимания (нрзбрч., может -
"останется"?) за завалою..."
Когда я записал последнюю букву, меня даже в пот кинуло. И нельзя
сказать, чтобы смысл этой записи стал более ясным после перевода. Как и
прежде, я не знал, в чем тут дело, что к чему и как?
Я подготовил себе воды с вареньем, бросил туда несколько кубиков льда,
вскрыл свежую пачку сигарет, снял туфли и завалился на тахту, покуривая и
прихлебывая воду, потому что у меня от этих дурацких лингвистических
упражнений глотку будто наждаком продрали.
Черт его знает, что-то такое, скрытое под корнями, - оно вначале.
А то, что потом, - кто-то спрятал под медью, холера на ту медь и на то
дерево с корнями. И если ты не дурак, то это что-то, эту медь, эти корни или
то, что скрыто под ними, обкрути змеей и дымом вокруг еще какой-то меди,
чтобы что-то не осталось за завалой... Ну, а если обмотаешь, то что будет?
Второе пришествие? Бульон с бобами? Фига с маком под нос?
Я поднялся, подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу.
Стояла уже ночь. В черном зеркале стекла отражалось мое лицо, огонек лампы,
а сквозь все это проступал неуютный городской пейзаж с последними огнями в
окнах и с черным асфальтом, по которому наперегонки мчались, плясали
расхлестанные, рваные, гонимые ветром водопады дождя.
Я был на грани того, чтобы все это бросить. Во всей книге пометок
больше не было, и господь его знает, что скрыл под своей тайнописью тот
древний человек, по костям которого прогрохотало уже несколько столетий.
"Брошу", - решил я.
Но в тот же миг я представил, как далеко за пределами города, на новом
кладбище, где даже и деревьев еще нет, а только прутики выбиваются из
холодной вязкой глины, лежит в этой самой ледяной персти то, что было
когда-то Марьяном, лучшим, единственным, может быть, последним моим
настоящим другом на этой клятой земле. Он завещал мне эту тайну, он
беспокоился, он, возможно, погиб из-за нее. Потому что, хоть вы меня
расстреляйте, я не верил, что все объясняется так просто: сердечным
приступом и падением в воду. Не верил. У меня было первобытное, животное
предчувствие, как у собаки, что все это не так, и если следы не найдены,
если ничто не украдено, если никто не виновен из допрошенных к настоящему
времени, то это не означает, что их нет, виновных, что новых следов не
будет. Наконец, это просто мой долг перед его памятью.
И потому я опять закурил, сжал пылающую голову холодными руками и,
собрав всю свою напряженную, холодную решимость, попытался сосредоточиться,
сконцентрировать внимание только на одном.
"Медь... змея... дым". При чем тут, к дьяволу, дым? "Медь" написана
там, как "мед"... А может, это не "медь", а "мёд"? Чушь собачья лезет вам в
голову, уважаемый товарищ Космич, чушь и бред сивой кобылы! Какой осел будет
прятать что-то там в мед? Разве что только убитого на войне знатного
человека заливали в долбленом гробу медом, чтобы довезти целым к родовой
гробнице или к бальзамировщику? Но представьте себе человека, который
расшифровывал, искал, убил на это полжизни, и все только для того, чтобы
найти труп? Это, простите, юмор висельника. И потом, что можно наматывать
вокруг меда? Нет, ясно же, что это что-то надо наматывать вокруг какого-то
медного предмета. А зачем?.. Нет, с этого конца ничего не получается...
Корни скрыли начало. Деревья с кореньями... Стоп! А почему дерево? О дереве
нигде не сказано!.. И, наконец, существуют на свете омонимы... Так... Ну,
ну... Корешок может быть не только у дерева... Корешки могут быть
табачные... Корешок может быть... у... книги. У книги, черт возьми! У книги!
Я бросился к столу, где лежала книга. Я не мог ждать, не мог обдумывать
все это дальше. Еще одного разочарования я просто не вынес бы. Я страшно
боялся и одновременно знал, что не ошибаюсь. Ведь я был идиотом, который
даже не догадался, что лучше всего можно замаскировать вещь на глазах у
всех.
Корешок плотно прилегал к листам, но не был прошит нитками, и это меня
немного успокоило. Я взял железную линейку и начал осторожно просовывать ее
за корешок. Линейка входила очень медленно и с тихим потрескиванием:
отдирался клей. И это было так же, как если бы стальной ланцет с
потрескиванием резал мою собственную плоть. Ну, конечно, это было
варварство, но я не мог больше ожидать. И я не резал по книге, а просто
отодвигал эту рыжую кожу, пусть себе и отрывая приклеенное.
Потом склею снова. Старательно и прочно.
Он, наконец, отстал. Я глянул в просвет и заметил, что там как будто
что-то желтеет. Где пинцетом, а где и помогая пальцами, я тянул, шевелил,
дергал и постепенно вытянул это желтое.
...И почти вскрикнул пораженный, когда на стол передо мной, наконец,
легла сложенная вдвое длинная лента пергамента. Длинная лента, на которой
были разбросаны буквы, начертанные старинными черными и со временем
порыжевшими чернилами-инкаустом, как называли их предки в те времена.
Я тут же измерил ее. Длина, когда развернешь, была 63 сантиметра,
ширина - 49 миллиметров. Буквы были разбросаны в полном беспорядке, но даже
там, где они составляли строку (всегда под определенным углом к полоске), я
ничего не мог понять. А между тем это не могло быть произвольной комбинацией
знаков, потому что соседние строчки звучали так:
Почему-то мне пришло в голову венгерское кер, и совсем не подумалось,
что и по-польски дурак - kiep. Вот я и оказался тот самый - кепъ.
"Ежели скопец головою, дурень, (то) не украдешь (нрзбрч.) подло.
Загамую (задержу), ибо клюкою (здесь недоставало слова, но можно было
догадаться, что "клюкою" - ключом хитрости или ума). Разумный, (то) сложи
змеею, лестницею, дымом..."
Дымом? При чем тут дым?!
"Канонъ (то бишь накануне, а может, в значении сначала) вшыткое (все
целое, все до конца) вокруг меди, занехаешь (не обратишь внимания, выпустишь
из вида) (нрзбрч.) за заворою (за завалою)".
Потом я попытался перевести все это на белорусский современный язык, по
возможности упростив текст. Получилось, за исключением темных мест, так:
"Я, первый и последний, потомку разумному завещаю медь посеребренную.
Иному медь толочь, в три фунта (с) половиной. Очередность такая: корешки
удобно начало спрятали, (а) медь скрыла остальное. Ежели (ты) скопец
головой, дурак, (то) не украдешь (нрзбрч.) подло. Удержу (бо) тебя ключом
(хитрости?). (Ежели) разумный (то) сложи змеею, лестницею, дымом... Сложи
поначалу все целое вокруг меди. Не обратишь внимания (нрзбрч., может -
"останется"?) за завалою..."
Когда я записал последнюю букву, меня даже в пот кинуло. И нельзя
сказать, чтобы смысл этой записи стал более ясным после перевода. Как и
прежде, я не знал, в чем тут дело, что к чему и как?
Я подготовил себе воды с вареньем, бросил туда несколько кубиков льда,
вскрыл свежую пачку сигарет, снял туфли и завалился на тахту, покуривая и
прихлебывая воду, потому что у меня от этих дурацких лингвистических
упражнений глотку будто наждаком продрали.
Черт его знает, что-то такое, скрытое под корнями, - оно вначале.
А то, что потом, - кто-то спрятал под медью, холера на ту медь и на то
дерево с корнями. И если ты не дурак, то это что-то, эту медь, эти корни или
то, что скрыто под ними, обкрути змеей и дымом вокруг еще какой-то меди,
чтобы что-то не осталось за завалой... Ну, а если обмотаешь, то что будет?
Второе пришествие? Бульон с бобами? Фига с маком под нос?
Я поднялся, подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу.
Стояла уже ночь. В черном зеркале стекла отражалось мое лицо, огонек лампы,
а сквозь все это проступал неуютный городской пейзаж с последними огнями в
окнах и с черным асфальтом, по которому наперегонки мчались, плясали
расхлестанные, рваные, гонимые ветром водопады дождя.
Я был на грани того, чтобы все это бросить. Во всей книге пометок
больше не было, и господь его знает, что скрыл под своей тайнописью тот
древний человек, по костям которого прогрохотало уже несколько столетий.
"Брошу", - решил я.
Но в тот же миг я представил, как далеко за пределами города, на новом
кладбище, где даже и деревьев еще нет, а только прутики выбиваются из
холодной вязкой глины, лежит в этой самой ледяной персти то, что было
когда-то Марьяном, лучшим, единственным, может быть, последним моим
настоящим другом на этой клятой земле. Он завещал мне эту тайну, он
беспокоился, он, возможно, погиб из-за нее. Потому что, хоть вы меня
расстреляйте, я не верил, что все объясняется так просто: сердечным
приступом и падением в воду. Не верил. У меня было первобытное, животное
предчувствие, как у собаки, что все это не так, и если следы не найдены,
если ничто не украдено, если никто не виновен из допрошенных к настоящему
времени, то это не означает, что их нет, виновных, что новых следов не
будет. Наконец, это просто мой долг перед его памятью.
И потому я опять закурил, сжал пылающую голову холодными руками и,
собрав всю свою напряженную, холодную решимость, попытался сосредоточиться,
сконцентрировать внимание только на одном.
"Медь... змея... дым". При чем тут, к дьяволу, дым? "Медь" написана
там, как "мед"... А может, это не "медь", а "мёд"? Чушь собачья лезет вам в
голову, уважаемый товарищ Космич, чушь и бред сивой кобылы! Какой осел будет
прятать что-то там в мед? Разве что только убитого на войне знатного
человека заливали в долбленом гробу медом, чтобы довезти целым к родовой
гробнице или к бальзамировщику? Но представьте себе человека, который
расшифровывал, искал, убил на это полжизни, и все только для того, чтобы
найти труп? Это, простите, юмор висельника. И потом, что можно наматывать
вокруг меда? Нет, ясно же, что это что-то надо наматывать вокруг какого-то
медного предмета. А зачем?.. Нет, с этого конца ничего не получается...
Корни скрыли начало. Деревья с кореньями... Стоп! А почему дерево? О дереве
нигде не сказано!.. И, наконец, существуют на свете омонимы... Так... Ну,
ну... Корешок может быть не только у дерева... Корешки могут быть
табачные... Корешок может быть... у... книги. У книги, черт возьми! У книги!
Я бросился к столу, где лежала книга. Я не мог ждать, не мог обдумывать
все это дальше. Еще одного разочарования я просто не вынес бы. Я страшно
боялся и одновременно знал, что не ошибаюсь. Ведь я был идиотом, который
даже не догадался, что лучше всего можно замаскировать вещь на глазах у
всех.
Корешок плотно прилегал к листам, но не был прошит нитками, и это меня
немного успокоило. Я взял железную линейку и начал осторожно просовывать ее
за корешок. Линейка входила очень медленно и с тихим потрескиванием:
отдирался клей. И это было так же, как если бы стальной ланцет с
потрескиванием резал мою собственную плоть. Ну, конечно, это было
варварство, но я не мог больше ожидать. И я не резал по книге, а просто
отодвигал эту рыжую кожу, пусть себе и отрывая приклеенное.
Потом склею снова. Старательно и прочно.
Он, наконец, отстал. Я глянул в просвет и заметил, что там как будто
что-то желтеет. Где пинцетом, а где и помогая пальцами, я тянул, шевелил,
дергал и постепенно вытянул это желтое.
...И почти вскрикнул пораженный, когда на стол передо мной, наконец,
легла сложенная вдвое длинная лента пергамента. Длинная лента, на которой
были разбросаны буквы, начертанные старинными черными и со временем
порыжевшими чернилами-инкаустом, как называли их предки в те времена.
Я тут же измерил ее. Длина, когда развернешь, была 63 сантиметра,
ширина - 49 миллиметров. Буквы были разбросаны в полном беспорядке, но даже
там, где они составляли строку (всегда под определенным углом к полоске), я
ничего не мог понять. А между тем это не могло быть произвольной комбинацией
знаков, потому что соседние строчки звучали так:
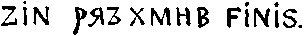 По крайней мере, одно слово, FINIS, было понятно. И слово это было
латинское. И обозначало оно "конец". Однако стоило перейти к соседним
кускам, написанным нашей родненькой кириллицей, и сразу выходила чушь
наподобие такого:
По крайней мере, одно слово, FINIS, было понятно. И слово это было
латинское. И обозначало оно "конец". Однако стоило перейти к соседним
кускам, написанным нашей родненькой кириллицей, и сразу выходила чушь
наподобие такого:
 Скажите, вы слыхали когда-нибудь о слове, которое начинается с твердого
знака, или о твердом знаке, который удобно разместился после гласной? Я -
нет.
И я читал, и все это звучало, как у ополоумевшего раввина, который
читает белорусскую книгу на еврейский манер, с конца.
А, черт! А почему бы и в самом деле не представить, что это написано "с
конца", наоборот. Скажем, методом, который тогда считался совершенной
шифровкой, а теперь передан в пользование детям, когда им приспичит играть в
тайные сообщества.
В этом случае первой букве алфавита должна соответствовать последняя.
А - это я, а я - это а.
Гм, вот и соответствующие куски "а". И еще "яа". И еще. Значит, это
"ая". Похоже на то, что окончания прилагательных женского рода типа
"толстая", "глупая". Ну что же, в этом что-то есть. Вполне возможно, что это
и есть детские хитрости литореи*, когда алфавит делили пополам, первую
половину писали слева направо, а вторую справа налево, под нею, и потом
заменяли буквы из верхнего ряда буквой из нижнего и наоборот.
______________
* От латинского слова litterra - буква.
Что же, попытаемся и мы.
Сколько же это было букв в том белорусском алфавите? Ну, во времена
Кирилла Туровского* было сорок две. Но даже уже и в то время почти не
употреблялась буква
Скажите, вы слыхали когда-нибудь о слове, которое начинается с твердого
знака, или о твердом знаке, который удобно разместился после гласной? Я -
нет.
И я читал, и все это звучало, как у ополоумевшего раввина, который
читает белорусскую книгу на еврейский манер, с конца.
А, черт! А почему бы и в самом деле не представить, что это написано "с
конца", наоборот. Скажем, методом, который тогда считался совершенной
шифровкой, а теперь передан в пользование детям, когда им приспичит играть в
тайные сообщества.
В этом случае первой букве алфавита должна соответствовать последняя.
А - это я, а я - это а.
Гм, вот и соответствующие куски "а". И еще "яа". И еще. Значит, это
"ая". Похоже на то, что окончания прилагательных женского рода типа
"толстая", "глупая". Ну что же, в этом что-то есть. Вполне возможно, что это
и есть детские хитрости литореи*, когда алфавит делили пополам, первую
половину писали слева направо, а вторую справа налево, под нею, и потом
заменяли буквы из верхнего ряда буквой из нижнего и наоборот.
______________
* От латинского слова litterra - буква.
Что же, попытаемся и мы.
Сколько же это было букв в том белорусском алфавите? Ну, во времена
Кирилла Туровского* было сорок две. Но даже уже и в то время почти не
употреблялась буква  - дервь.
______________
* Туровский Кирилл (ок. 1130 - ок. 1182) - знаменитый деятель
древнерусской литературы, выдающийся проповедник и поэт, которого
современники называли "Златоуст, паче всех воссиявший нам на Руси".
А уж до XVI столетия она и подавно не дожила.
Шифровальщик вряд ли употреблял еще и такие знаки, как юсы простые и
йотированные. Вычеркнем и их. Буквы "от", "кси", "пси" не были в чести у
белорусов, особенно в мирских документах. Предкам были свойственны
рациональность и склонность упрощать излишне сложные вещи. Что им было в
автоматически перенесенных из греческого алфавита знаках? Подумаешь - "кси"
в слове Александр. Можно и двумя буквами обойтись.
Я долго думал над тем, пользовался ли мой человек такими буквами, как
"зело", "i десятиричное", "фита", "ять" и так далее. И пришел к выводу, что
не пользовался. Вместо них вполне можно было употребить обычные з, и, ф.
Ведь ему нужно было предельно упростить дело.
Таким образом, сложенный мною "алфавит шифровальщика" приближался к
современному белорусскому алфавиту, с тем исключением, что в нем не было
букв э (ее в то время вообще не было) и, конечно, у (у - бывает кратким в
белорусском алфавите). Потому что в кирилловском алфавите она отсутствовала,
и мы даже не знали бы, существовал ли такой звук в нашей тогдашней фонетике,
если бы не косвенные суждения и если бы не белорусские книги, написанные
арабским шрифтом, в котором имеется и дз, и мягкое ць, и много иных вещей
подобного рода.
Зато, поразмыслив, я включил в алфавит букву щ (шта), довольно
распространенную в текстах того времени. Таким образом, у меня получилось
тридцать букв, или два ряда по пятнадцать.
На одной стороне полоски были такие буквы:
- дервь.
______________
* Туровский Кирилл (ок. 1130 - ок. 1182) - знаменитый деятель
древнерусской литературы, выдающийся проповедник и поэт, которого
современники называли "Златоуст, паче всех воссиявший нам на Руси".
А уж до XVI столетия она и подавно не дожила.
Шифровальщик вряд ли употреблял еще и такие знаки, как юсы простые и
йотированные. Вычеркнем и их. Буквы "от", "кси", "пси" не были в чести у
белорусов, особенно в мирских документах. Предкам были свойственны
рациональность и склонность упрощать излишне сложные вещи. Что им было в
автоматически перенесенных из греческого алфавита знаках? Подумаешь - "кси"
в слове Александр. Можно и двумя буквами обойтись.
Я долго думал над тем, пользовался ли мой человек такими буквами, как
"зело", "i десятиричное", "фита", "ять" и так далее. И пришел к выводу, что
не пользовался. Вместо них вполне можно было употребить обычные з, и, ф.
Ведь ему нужно было предельно упростить дело.
Таким образом, сложенный мною "алфавит шифровальщика" приближался к
современному белорусскому алфавиту, с тем исключением, что в нем не было
букв э (ее в то время вообще не было) и, конечно, у (у - бывает кратким в
белорусском алфавите). Потому что в кирилловском алфавите она отсутствовала,
и мы даже не знали бы, существовал ли такой звук в нашей тогдашней фонетике,
если бы не косвенные суждения и если бы не белорусские книги, написанные
арабским шрифтом, в котором имеется и дз, и мягкое ць, и много иных вещей
подобного рода.
Зато, поразмыслив, я включил в алфавит букву щ (шта), довольно
распространенную в текстах того времени. Таким образом, у меня получилось
тридцать букв, или два ряда по пятнадцать.
На одной стороне полоски были такие буквы:
 И больше ничего до самого конца всей шестидесятитрехсантиметровой
полосы. Я подставил буквы.
И больше ничего до самого конца всей шестидесятитрехсантиметровой
полосы. Я подставил буквы.
 "Як латiне..." ("Как латине...") Что-то складывалось. Но почему только
это? Написал, потом раздумал и перевернул ленту? Может быть.
Первая буква на обороте Щ. Это значит Е. "Як латiне". И тут получилось.
Пя - значит ра. Что же они ра? Пако етнас? Глупости, пане мой голубчик! Но
вот десятая строка хмнв Finis подходит - куть Finis. "Як латине ракуць" (Как
латине говорят Finis). Что же, этот человек еще и здесь шифровал? Писал
первую строку, десятую, двадцатую, а потом заполнял промежутки другими
строками? Но двадцатой строкой было какое-то дурацкое am ы б. Это я
скудоумной обезьяньей частью своего "я" надумал расшифровать все с маху.
Когда я перевел литорею на обычный, нормальный человеческий язык, на
полосе появилось вот что:
I половина ленты:
"Як латiне..." ("Как латине...") Что-то складывалось. Но почему только
это? Написал, потом раздумал и перевернул ленту? Может быть.
Первая буква на обороте Щ. Это значит Е. "Як латiне". И тут получилось.
Пя - значит ра. Что же они ра? Пако етнас? Глупости, пане мой голубчик! Но
вот десятая строка хмнв Finis подходит - куть Finis. "Як латине ракуць" (Как
латине говорят Finis). Что же, этот человек еще и здесь шифровал? Писал
первую строку, десятую, двадцатую, а потом заполнял промежутки другими
строками? Но двадцатой строкой было какое-то дурацкое am ы б. Это я
скудоумной обезьяньей частью своего "я" надумал расшифровать все с маху.
Когда я перевел литорею на обычный, нормальный человеческий язык, на
полосе появилось вот что:
I половина ленты:
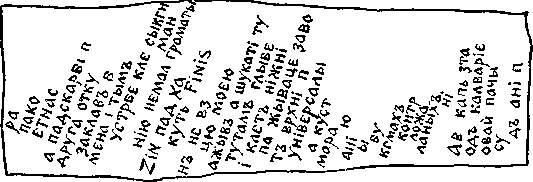 II половина ленты:
II половина ленты:
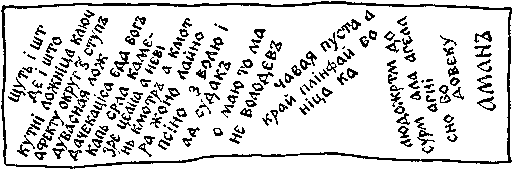 Вопрос первый: почему писал наискось? Вопрос второй: почему весь
пергамент носит следы давней измятости и почему кое-где пятна от клея?
Вопрос третий: каким методом записи пользовался тот человек?
Вот слово "капь", старая мера веса. Оно повторяется. Ясно, что эти
строки должны быть рядом, ибо скорее всего здесь что-то перечисляется. Но
между словом капь зта (золота) и капь срла (серебра, потому что на древнем
белорусском было "срэбла") не десять, а одиннадцать строк. Нет, это что-то
опять не то. Ты снова чуть не сбился на легкий путь. Снова. И потому опять
покарай себя тяжелым трудом, человек.
Думай! Как бы тебе ни казалось, что до смысла легко дойти, что способ
записи примитивный и пустяковый, - думай. Шевели мозгами. Почему полоса
измята? Почему наискось? Почему пятна клея, чистые белые куски, почему не
измят именно тот конец, на котором те, единственные на всей обратной
стороне, буквы?
В книжном шифре есть слова "...сложи змеею, лестницею, дымом... Сложи
вначале все целое вокруг меди".
И тут меня осенило! Я вспомнил один средневековый белорусский способ
пересылки тайных писем. Два военачальника, дипломата или заговорщика заранее
изготовляли себе два предмета одинаковой формы. Каждый имел при себе один.
Если надо было отослать донесение, один из них наматывал на свой предмет
полосу бумаги, длина и ширина которой были заранее оговорены. Потом текст
писали вдоль этого предмета. Затем полосу разматывали. На размотанной ленте
ничего нельзя было понять, потому что слова, части слов, даже буквы были
теперь в самых разных ее концах. Тот, кто получал донесение, наматывал его
на свой предмет под заранее оговоренным углом... и читал. Гонец не знал
содержания. Случайно попав в руки врага, он ничего не мог выдать, даже
преданный пытке. Все, даже лютые враги, знали это, и делалось такое не из-за
недоверия к гонцу, а просто чтобы человека напрасно не мучили.
Пока что все сходилось. И измятость. И строки, писанные наискось. И
пятна клея, потому что им для удобства закрепляли ленту, чтобы она не
разматывалась во время писания. И даже то, что несколько букв было на одной
стороне, а все остальное на другой. Видимо, предмет был сложной формы, и
шифровальщик перевернул полосу, чтобы она удобнее обвивалась вокруг
какого-то выступа. В самом деле, попробуйте намотать вокруг чего-то
непослушный пергамент! Это вам не покорная бумага, которая все терпит.
Все сходилось, все было, кроме... кроме того, чего я не имел и никогда
не мог иметь, - предмета, на который наматывалась лента три с половиной
сотни лет назад.
Один умный потомок имел часть чего-то очень важного, то, что "скрыли
корни". Но он не знал, в руках какого другого умного потомка находилась
"медь", то, на что надо наматывать, не знал ее формы. А значит, все мои
усилия пошли "на псы".
...Почему "на псы"? Думай, хлопец, думай! Дело, конечно, будет очень
трудным, если тот "предмет", скажем, имел форму двух конусов, сложенных
основаниями. Очень трудным, но и в этом случае выполнимым. Да только вряд ли
они пользовались предметом такой сложной формы... Чаще всего полоса
пергамента или бумаги наматывалась на жезл определенной длины... А что такое
жезл?.. Это та же самая палка... А что такое палка? Палка - это, если
определить приблизительно, тот самый цилиндр, пусть себе даже сложной
конфигурации, где потолще, а где и потоньше. Если это так, то почему бы не
решить задачу, которая казалась чрезвычайно, неизмеримо сложной мозгам
обычного, общеустановленного, заурядного средневекового человека ("наш
простой средневековый человек") и которую сейчас может решить даже ученик
девятого класса, если у него, конечно, на плечах голова, а не арбуз.
Я пишу вдоль предмета. Полоса может наматываться, навиваться на этот
предмет под любым углом. Угол между кратчайшим расстоянием по нормали
(ширина полосы), отнесенной к длине строки, есть cos a, косинус угла
намотки.
...Измерил длину строки под углом. Она составила 58 миллиметров. А
ширина самой полосы - 49 миллиметров. 49:58=0,82.
Ну вот, это уже пошло малость поинтереснее. Где это моя логарифмическая
линейка? Я ведь не пользовался ею со времен раскопок в Городище и связанной
с этим историей. Черт побери, до этого мог додуматься только отец: подсунул
ее под настенный проигрыватель, чтобы не царапал стену.
Ну, 0,82 возводим в квадрат. Получается, что наматывали под углом в
20+. К сожалению, предмет, кажется, и в самом деле был сложной конфигурации.
Судя по измятостям, он имел утолщения на обоих концах и в середине. Но это
ничего. Где угол иной - соответственно и рассчитаем. Да и, несмотря на
утолщение, шаг (угол намотки) будет один, должен быть один. Просто в таких
местах пергамент будет заламываться, заходить под следующий виток или
наползать на него и, значит, угол почти не изменится, а просто на ленте
останутся чистые, не заполненные буквами места. Что мы и видим в нашем
случае.
Теперь более сложное. Как вычислить диаметр предмета, на который надо
все это наматывать? Нужно найти хотя бы одну строчку, которая совпадает.
Скажем, написано:
Вопрос первый: почему писал наискось? Вопрос второй: почему весь
пергамент носит следы давней измятости и почему кое-где пятна от клея?
Вопрос третий: каким методом записи пользовался тот человек?
Вот слово "капь", старая мера веса. Оно повторяется. Ясно, что эти
строки должны быть рядом, ибо скорее всего здесь что-то перечисляется. Но
между словом капь зта (золота) и капь срла (серебра, потому что на древнем
белорусском было "срэбла") не десять, а одиннадцать строк. Нет, это что-то
опять не то. Ты снова чуть не сбился на легкий путь. Снова. И потому опять
покарай себя тяжелым трудом, человек.
Думай! Как бы тебе ни казалось, что до смысла легко дойти, что способ
записи примитивный и пустяковый, - думай. Шевели мозгами. Почему полоса
измята? Почему наискось? Почему пятна клея, чистые белые куски, почему не
измят именно тот конец, на котором те, единственные на всей обратной
стороне, буквы?
В книжном шифре есть слова "...сложи змеею, лестницею, дымом... Сложи
вначале все целое вокруг меди".
И тут меня осенило! Я вспомнил один средневековый белорусский способ
пересылки тайных писем. Два военачальника, дипломата или заговорщика заранее
изготовляли себе два предмета одинаковой формы. Каждый имел при себе один.
Если надо было отослать донесение, один из них наматывал на свой предмет
полосу бумаги, длина и ширина которой были заранее оговорены. Потом текст
писали вдоль этого предмета. Затем полосу разматывали. На размотанной ленте
ничего нельзя было понять, потому что слова, части слов, даже буквы были
теперь в самых разных ее концах. Тот, кто получал донесение, наматывал его
на свой предмет под заранее оговоренным углом... и читал. Гонец не знал
содержания. Случайно попав в руки врага, он ничего не мог выдать, даже
преданный пытке. Все, даже лютые враги, знали это, и делалось такое не из-за
недоверия к гонцу, а просто чтобы человека напрасно не мучили.
Пока что все сходилось. И измятость. И строки, писанные наискось. И
пятна клея, потому что им для удобства закрепляли ленту, чтобы она не
разматывалась во время писания. И даже то, что несколько букв было на одной
стороне, а все остальное на другой. Видимо, предмет был сложной формы, и
шифровальщик перевернул полосу, чтобы она удобнее обвивалась вокруг
какого-то выступа. В самом деле, попробуйте намотать вокруг чего-то
непослушный пергамент! Это вам не покорная бумага, которая все терпит.
Все сходилось, все было, кроме... кроме того, чего я не имел и никогда
не мог иметь, - предмета, на который наматывалась лента три с половиной
сотни лет назад.
Один умный потомок имел часть чего-то очень важного, то, что "скрыли
корни". Но он не знал, в руках какого другого умного потомка находилась
"медь", то, на что надо наматывать, не знал ее формы. А значит, все мои
усилия пошли "на псы".
...Почему "на псы"? Думай, хлопец, думай! Дело, конечно, будет очень
трудным, если тот "предмет", скажем, имел форму двух конусов, сложенных
основаниями. Очень трудным, но и в этом случае выполнимым. Да только вряд ли
они пользовались предметом такой сложной формы... Чаще всего полоса
пергамента или бумаги наматывалась на жезл определенной длины... А что такое
жезл?.. Это та же самая палка... А что такое палка? Палка - это, если
определить приблизительно, тот самый цилиндр, пусть себе даже сложной
конфигурации, где потолще, а где и потоньше. Если это так, то почему бы не
решить задачу, которая казалась чрезвычайно, неизмеримо сложной мозгам
обычного, общеустановленного, заурядного средневекового человека ("наш
простой средневековый человек") и которую сейчас может решить даже ученик
девятого класса, если у него, конечно, на плечах голова, а не арбуз.
Я пишу вдоль предмета. Полоса может наматываться, навиваться на этот
предмет под любым углом. Угол между кратчайшим расстоянием по нормали
(ширина полосы), отнесенной к длине строки, есть cos a, косинус угла
намотки.
...Измерил длину строки под углом. Она составила 58 миллиметров. А
ширина самой полосы - 49 миллиметров. 49:58=0,82.
Ну вот, это уже пошло малость поинтереснее. Где это моя логарифмическая
линейка? Я ведь не пользовался ею со времен раскопок в Городище и связанной
с этим историей. Черт побери, до этого мог додуматься только отец: подсунул
ее под настенный проигрыватель, чтобы не царапал стену.
Ну, 0,82 возводим в квадрат. Получается, что наматывали под углом в
20+. К сожалению, предмет, кажется, и в самом деле был сложной конфигурации.
Судя по измятостям, он имел утолщения на обоих концах и в середине. Но это
ничего. Где угол иной - соответственно и рассчитаем. Да и, несмотря на
утолщение, шаг (угол намотки) будет один, должен быть один. Просто в таких
местах пергамент будет заламываться, заходить под следующий виток или
наползать на него и, значит, угол почти не изменится, а просто на ленте
останутся чистые, не заполненные буквами места. Что мы и видим в нашем
случае.
Теперь более сложное. Как вычислить диаметр предмета, на который надо
все это наматывать? Нужно найти хотя бы одну строчку, которая совпадает.
Скажем, написано:
 И тогда развернуть ленту и измерить расстояние между слогами, замерить
его.
И тогда развернуть ленту и измерить расстояние между слогами, замерить
его.
 А эта штука равна пD.
Поищем такую строку. Есть такие строки. Вот по смыслу, пожалуй,
подходит такое: "етнас... цю моею... о маю то ма. (Шт) о маю, то ма...
етнас... цю моею". Или - "капь эта... капь срла". Молодчина, что
пересчитывал, умница, что дал мне этот ключ! Ты и не думал, что даешь мне
неизвестное тебе пD. Ты не имел и зеленого понятия, что отсюда D, диаметр
предмета, на который ты наматывал свою тайну, равен измеренному расстоянию
между совпадающими строками. Равен этому расстоянию, поделенному на 3,14.
Головастые люди твоего семнадцатого столетия тоже знали это, но знали
немного иначе - как бишь они это знали? - ага, они, насколько мне помнится,
знали это, по крайней мере, в Белоруссии, как 22:7. Что же, и это хлеб,
почти то же самое и с расхождением в четвертом знаке. Но ты вряд ли водил
знакомство с головастыми людьми. Головастые люди - они беспокоят, поэтому вы
их не любите, стараетесь не уважать, и это главная ваша ошибка во все
времена, многочтимые господа магнаты. Тайна твоя, даже для головастых твоей
эпохи, лежала на поверхности.
Вот она, твоя тайна. Твой "жезл" был диаметром в два сантиметра с
двумя-тремя миллиметрами. Диаметр утолщений на концах достигал четырех
сантиметров, утолщение на середине - трех (что бы это за предмет мог быть?
Но я этого, наверно, никогда не узнаю, да это и маловажно!). Все эти
утолщения, глубокоуважаемый, практически можно отбросить. Вот так! Напрасно
ты морочил себе голову.
...Я пошел на кухню и начал искать среди своих причиндалов какой-нибудь
предмет диаметром в два сантиметра.
И нашел. Рукоятка сковородника, которым берут с огня сковороду, была
как раз в диаметре 2 сантиметра и два миллиметра, хоть меряй кронциркулем.
Что ж, теперь подготовим три-четыре точные копии из бумаги, чтобы не
трепать пергамент, не порвать его и зря не марать клеем. Просто переведем
через копирку - и не карандашом, а концом спички - все эти буквы. Готово. Ну
вот, а дальше возьмем, парень, цилиндр вычисленного диаметра - сковородник -
и под вычисленным углом будем наматывать на него бумагу, читая текст.
Я мучился с этим долго. Приклеивал и приминал те места, где были чистые
пятна, и снова измерял угол намотки, и вел-вел дальше до посинения.
Сделано. Я приклеил конец, обождал, пока подсохнет клей, и начал читать
вдоль предмета, как будто грыз кукурузный початок. Только что глазами.
А эта штука равна пD.
Поищем такую строку. Есть такие строки. Вот по смыслу, пожалуй,
подходит такое: "етнас... цю моею... о маю то ма. (Шт) о маю, то ма...
етнас... цю моею". Или - "капь эта... капь срла". Молодчина, что
пересчитывал, умница, что дал мне этот ключ! Ты и не думал, что даешь мне
неизвестное тебе пD. Ты не имел и зеленого понятия, что отсюда D, диаметр
предмета, на который ты наматывал свою тайну, равен измеренному расстоянию
между совпадающими строками. Равен этому расстоянию, поделенному на 3,14.
Головастые люди твоего семнадцатого столетия тоже знали это, но знали
немного иначе - как бишь они это знали? - ага, они, насколько мне помнится,
знали это, по крайней мере, в Белоруссии, как 22:7. Что же, и это хлеб,
почти то же самое и с расхождением в четвертом знаке. Но ты вряд ли водил
знакомство с головастыми людьми. Головастые люди - они беспокоят, поэтому вы
их не любите, стараетесь не уважать, и это главная ваша ошибка во все
времена, многочтимые господа магнаты. Тайна твоя, даже для головастых твоей
эпохи, лежала на поверхности.
Вот она, твоя тайна. Твой "жезл" был диаметром в два сантиметра с
двумя-тремя миллиметрами. Диаметр утолщений на концах достигал четырех
сантиметров, утолщение на середине - трех (что бы это за предмет мог быть?
Но я этого, наверно, никогда не узнаю, да это и маловажно!). Все эти
утолщения, глубокоуважаемый, практически можно отбросить. Вот так! Напрасно
ты морочил себе голову.
...Я пошел на кухню и начал искать среди своих причиндалов какой-нибудь
предмет диаметром в два сантиметра.
И нашел. Рукоятка сковородника, которым берут с огня сковороду, была
как раз в диаметре 2 сантиметра и два миллиметра, хоть меряй кронциркулем.
Что ж, теперь подготовим три-четыре точные копии из бумаги, чтобы не
трепать пергамент, не порвать его и зря не марать клеем. Просто переведем
через копирку - и не карандашом, а концом спички - все эти буквы. Готово. Ну
вот, а дальше возьмем, парень, цилиндр вычисленного диаметра - сковородник -
и под вычисленным углом будем наматывать на него бумагу, читая текст.
Я мучился с этим долго. Приклеивал и приминал те места, где были чистые
пятна, и снова измерял угол намотки, и вел-вел дальше до посинения.
Сделано. Я приклеил конец, обождал, пока подсохнет клей, и начал читать
вдоль предмета, как будто грыз кукурузный початок. Только что глазами.
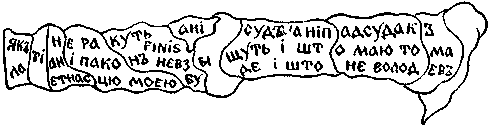 И дальше:
И дальше:
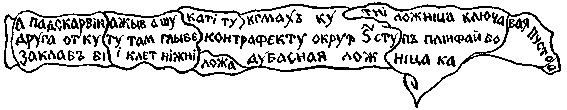 При следующем повороте цилиндра обнаружилось следующее:
При следующем повороте цилиндра обнаружилось следующее:
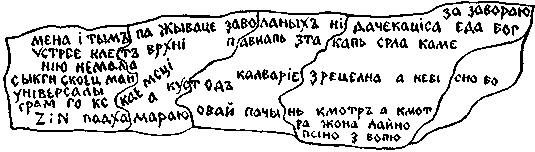 Здесь ему не хватало места, но, судя по тому, что последние слова были
бранью - "лайно (навоз, помет, отбросы), псiно (песье отродье)", - человек,
который записывал это, задыхался от ярости, горя желанием добавить еще
что-то. И потому он завернул полосу и написал на чистых местах еще несколько
слов:
Здесь ему не хватало места, но, судя по тому, что последние слова были
бранью - "лайно (навоз, помет, отбросы), псiно (песье отродье)", - человек,
который записывал это, задыхался от ярости, горя желанием добавить еще
что-то. И потому он завернул полосу и написал на чистых местах еще несколько
слов:
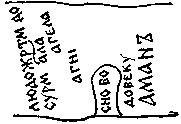 Если изобразить это по-человечески, то текст звучал так:
"Якъ латiне ракуть Finis анi судъ анi падсудакъ анi паконъ не взыщуть i
што маю, то маетнасцю моею буде i што не володевъ, а подскарбi нажывъ.
А шукатi ту кгмахъ кутнi ложнiца ключавая пуста. А друга от куту там
глыбе контрафекту окрут
Если изобразить это по-человечески, то текст звучал так:
"Якъ латiне ракуть Finis анi судъ анi падсудакъ анi паконъ не взыщуть i
што маю, то маетнасцю моею буде i што не володевъ, а подскарбi нажывъ.
А шукатi ту кгмахъ кутнi ложнiца ключавая пуста. А друга от куту там
глыбе контрафекту окрут  ступъ плiнфай бо заклавъ бi i клет нiжнi ложа
дубаснае ложнiца камена i тымъ па жываце заволаныхъ нi дачакацiса за завораю
еда бог уструбе клетъ врхнi павкапь эта капь срла каменiю не мал сыкгн скоец
ман унiверсалы грам якмсцi а кустодъ калварiе зрецелна а невiсно бо Z i N
пад хамараю овай.
Пачынь кмотръ а кмотра жона лайно псiно з вопю i людожртм до сурм ала
агела агнi довеку АМАНЪ".
Нельзя было сказать, чтобы и это было так уж понятно. Но теперь можно
было хотя бы составить словарик и подставить под непонятные слова
современный смысл.
И я начал искать по всем выпискам, по всем своим картотекам, по
словарикам в "Истории книги", у Карского* и в других книгах.
______________
* Карский Евхим Федорович (1861-1931) - советский филолог-славист,
основатель белорусского языкознания, филологии и фольклористики.
Паконъ - закон. Кгмахъ - гмах (махина, громадина). Ложнiца - спальня.
Контрафектъ - рисунок, образ. Окрут - корабль. Плiнфа - старинный очень
плоский кирпич. Дубасны - из еловой коры. Заваланых - позванных. Завора -
засов. Еда - наверное, егда, разве, неужели, иначе. Павкапь, капь - два и
четыре пуда. Скоецъ - монета. Кустодъ - сторож. Невiсно, нявiсны - это
архаическое слепой, невидящий. Значит, и здесь что-то "слепо", "невидно", а
может быть, и просто "не найдешь". Кмотръ - кум. Лайно - ну, это слово из
лексикона Зизания* и означает нечистоты, отбросы, помет, навоз. Калварие -
место казни, лобное место, голгофа, кладбище (от латинского calva - череп).
______________
* Зизаний (Тустановский) Лаврентий (? - ок. 1634) - белорусский
педагог, церковный деятель, переводчик. Перевел и издал много книг, в
частности второй (после "Букваря" братьев Мамоничей) букварь, по которому
учились читать в Белоруссии, Московии и на Украине. К букварю
(иллюстрированному) был приложен "Лексис" - белорусский словарь.
А что такое людожртм? Наверное, людожерством (людоедством). Хитрил,
бестия, и титлы ставил не там, где надо.
Подставим теперь то, что понятно. Переведем.
"Как латине говорят: Finis (конец)! И ни суд, ни подсудок (чиновник или
писарь земского уездного суда), ни закон не взыщут, и что имею, то маетнасцю
(имуществом) моею будет и (то) чем не владел, а падскарбим (государственным
казначеем) нажил.
А искать тут гмах кутни (в смысле - угловое строение), спальня
ключевая, пустая. А вторая, от угла, там глубже изображения корабля, восемь
ступ цэглаю (кирпичом) бо заклал (заложил) (абы?) клеть (этаж нижний), ложе
из еловой коры, спальня каменная, и тем после жизни закликаных (позванных)
за завалою (засовом) не дождаться, хiба (разве) (что?) бог устр(у)бе
(вострубит). Этаж верхний - полукапь золота, капь серебра, камней не (об)
мал (ь) (немало) сыкгнеты, монеты, ман (ускрипты?) универсалы е(го)
к(оролевской) м(ило)сти, а вартовник (сторож) лобного места виден, а не
найдешь, ибо Z i N (?) под хамарою (?) этой.
Опочни, кум и кумова жена, навоз собачий, с воплями и людоедством до
сурм (труб) ангелов (и в) дьявольском огне вовеки".
Таков приблизительно был смысл этого жутковатого в чем-то документа. Но
что такое "хамара" и что такое "Z i N"?
Хамара. Словно звучало не по-славянски, хотя и напоминало наше "камора"
(кладовая). Похоже на древнееврейское? Или арабское? Или греческое? Но в
первых двух языках я разбирался, как... А третий знал едва-едва. И, однако,
полез в словарь. Дуракам везет, нашел:
ступъ плiнфай бо заклавъ бi i клет нiжнi ложа
дубаснае ложнiца камена i тымъ па жываце заволаныхъ нi дачакацiса за завораю
еда бог уструбе клетъ врхнi павкапь эта капь срла каменiю не мал сыкгн скоец
ман унiверсалы грам якмсцi а кустодъ калварiе зрецелна а невiсно бо Z i N
пад хамараю овай.
Пачынь кмотръ а кмотра жона лайно псiно з вопю i людожртм до сурм ала
агела агнi довеку АМАНЪ".
Нельзя было сказать, чтобы и это было так уж понятно. Но теперь можно
было хотя бы составить словарик и подставить под непонятные слова
современный смысл.
И я начал искать по всем выпискам, по всем своим картотекам, по
словарикам в "Истории книги", у Карского* и в других книгах.
______________
* Карский Евхим Федорович (1861-1931) - советский филолог-славист,
основатель белорусского языкознания, филологии и фольклористики.
Паконъ - закон. Кгмахъ - гмах (махина, громадина). Ложнiца - спальня.
Контрафектъ - рисунок, образ. Окрут - корабль. Плiнфа - старинный очень
плоский кирпич. Дубасны - из еловой коры. Заваланых - позванных. Завора -
засов. Еда - наверное, егда, разве, неужели, иначе. Павкапь, капь - два и
четыре пуда. Скоецъ - монета. Кустодъ - сторож. Невiсно, нявiсны - это
архаическое слепой, невидящий. Значит, и здесь что-то "слепо", "невидно", а
может быть, и просто "не найдешь". Кмотръ - кум. Лайно - ну, это слово из
лексикона Зизания* и означает нечистоты, отбросы, помет, навоз. Калварие -
место казни, лобное место, голгофа, кладбище (от латинского calva - череп).
______________
* Зизаний (Тустановский) Лаврентий (? - ок. 1634) - белорусский
педагог, церковный деятель, переводчик. Перевел и издал много книг, в
частности второй (после "Букваря" братьев Мамоничей) букварь, по которому
учились читать в Белоруссии, Московии и на Украине. К букварю
(иллюстрированному) был приложен "Лексис" - белорусский словарь.
А что такое людожртм? Наверное, людожерством (людоедством). Хитрил,
бестия, и титлы ставил не там, где надо.
Подставим теперь то, что понятно. Переведем.
"Как латине говорят: Finis (конец)! И ни суд, ни подсудок (чиновник или
писарь земского уездного суда), ни закон не взыщут, и что имею, то маетнасцю
(имуществом) моею будет и (то) чем не владел, а падскарбим (государственным
казначеем) нажил.
А искать тут гмах кутни (в смысле - угловое строение), спальня
ключевая, пустая. А вторая, от угла, там глубже изображения корабля, восемь
ступ цэглаю (кирпичом) бо заклал (заложил) (абы?) клеть (этаж нижний), ложе
из еловой коры, спальня каменная, и тем после жизни закликаных (позванных)
за завалою (засовом) не дождаться, хiба (разве) (что?) бог устр(у)бе
(вострубит). Этаж верхний - полукапь золота, капь серебра, камней не (об)
мал (ь) (немало) сыкгнеты, монеты, ман (ускрипты?) универсалы е(го)
к(оролевской) м(ило)сти, а вартовник (сторож) лобного места виден, а не
найдешь, ибо Z i N (?) под хамарою (?) этой.
Опочни, кум и кумова жена, навоз собачий, с воплями и людоедством до
сурм (труб) ангелов (и в) дьявольском огне вовеки".
Таков приблизительно был смысл этого жутковатого в чем-то документа. Но
что такое "хамара" и что такое "Z i N"?
Хамара. Словно звучало не по-славянски, хотя и напоминало наше "камора"
(кладовая). Похоже на древнееврейское? Или арабское? Или греческое? Но в
первых двух языках я разбирался, как... А третий знал едва-едва. И, однако,
полез в словарь. Дуракам везет, нашел:
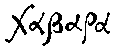 Что означает свод, сводчатый потолок.
Но что такое Z i N? Что это мне напоминает? Химическую формулу? Но
откуда в те времена взялась бы химия и ее формулы? Алхимия - это еще может
быть. Так что это, что?.. Алхимия?.. Алхимические знаки?
Я начал мучительно припоминать все еще не забытые мной с тех времен,
когда изучал колдовские процессы, алхимические знаки.
Что означает свод, сводчатый потолок.
Но что такое Z i N? Что это мне напоминает? Химическую формулу? Но
откуда в те времена взялась бы химия и ее формулы? Алхимия - это еще может
быть. Так что это, что?.. Алхимия?.. Алхимические знаки?
Я начал мучительно припоминать все еще не забытые мной с тех времен,
когда изучал колдовские процессы, алхимические знаки.  - золото или
солнце. А как белорусский алхимик обозначал реторту? Ага,
- золото или
солнце. А как белорусский алхимик обозначал реторту? Ага,  спиритус?
спиритус?
 Т-так...
Т-так...  - негашеная известь.
Что же такое Z i N?
И тут вдруг словно всплыло что-то с самого дна памяти. Ну, конечно же,
конечно, Z i N - знак замазывания. Знак, который ставили, когда какое-то
вещество замазывали на
- негашеная известь.
Что же такое Z i N?
И тут вдруг словно всплыло что-то с самого дна памяти. Ну, конечно же,
конечно, Z i N - знак замазывания. Знак, который ставили, когда какое-то
вещество замазывали на  , годовой или даже более долгий срок.
И, значит, это предложение надо было читать приблизительно так:
"...страж лобного места. Видать, а не найдешь, потому что замазано под
сводом этим".
Смысл был маловразумителен - автор пренебрегал всякой грамматикой, даже
падежами - но от этого не менее страшен. А можно было, расставив иначе знаки
препинания, понять все это и так:
"Лобное место видимое, но не найдешь, потому что замазано под сводом
этим".
Но даже при таком, все еще смутном, хотя и более понятном прочтении,
было в этой записи что-то тревожное, что-то устрашающее, чудовищно мрачное,
коварно-утонченное и гнусное. Я кожей чувствовал это. И знал, что теперь не
оставлю эту загадку, каков бы ни был ответ. Загадку, которую я должен был
разгадать в память моего друга, была она причиной его смерти или не была.
�ГЛАВА VIII�
Вновь гаснет небо
Я оторвался от бумаг. Глаза жгло, словно засыпанные песком, во всем
теле была вялость, как будто кто-то хорошенько отмолотил меня валиком от
дивана: кости целы, а шевельнуться трудно.
Когда я отдернул шторы, за окном начинало светать. Очень медленно,
тускло и неуютно. Значит, я работал целую ночь. Не случайно так адски,
убийственно болела голова. Так болела, что теперь я вряд ли смог бы
вспомнить таблицу умножения на пять.
Я ненавижу лекарства, принимал их, не считая тех случаев, когда
серьезно болел, всего раз пять за жизнь (это тоже один из моих дурацких
комплексов), но тут я не выдержал. Проглотил таблетку папаверина, полежал
минут пятнадцать и, когда боль притупилась, выбросил две пепельницы окурков,
распахнул все окна, умылся холодной водой, взрезал пачку сигарет, закурил и
стал думать, что же делать с тайной, которая мне досталась.
В этот момент послышался стук в стенку: их величество Хилинский,
наверное, желали испить со мной чайку. Тоже товарищ с комплексами. Или,
может, только заявились? Вот и хорошо, будет с кем посоветоваться. Не с кем
мне теперь, Марьян, советоваться. Совсем не с кем, брате.
Дав собакам поесть, я пошел к соседу.
Для раннего утра его квартира была уже идеально убрана.
- Не ложились еще?
- Гм, а зачем бы это я должен был ложиться?
- Работа какая-то была?
- Как всегда. Ну что, старик, пропустим по чарочке да в шахматишки?
- Коньяк? В такую рань?
- А ты что, хочешь, чтобы я в два часа ночи начинал? И, скажем, с
денатурата и пива?
- Однако в девять часов... как-то оно... Вон даже американцы считают,
что раньше пяти неудобно. Один там даже бизнес сделал: выпустил для
бизнесменов партию часов, где все цифры - пятерки. Потому что раньше пяти -
неудобно.
- Пяти утра? - спросил Хилинский.
- Ну, знаешь! - возмутился я.
- Человече, - вдруг посерьезнел Хилинский, - ты вообще-то имеешь
представление, где ты и когда ты?
- Шестнадцатого апреля. Пан Хилинский предлагает мне коньяк в девять
часов утра и сожалеет, что не предложил мне этой работы, разбудив в пять
утра. Сколько времени потеряли! Сейчас были бы уже готовенькие.
- Девять часов вечера шестнадцатого апреля.
За окном, действительно, не светало, а темнело.
- Черт, - сказал я. - Неужели, это я... сутки?.. То-то голова трещала.
- Шахматишки отменяются, - глухо сказал Хилинский, наливая рюмки. - Ну,
что случилось? Расскажи, если есть охота, как это ты дня не заметил?
Я рассказал. Он сидел, грел рюмку ладонью и напряженно думал.
- Ну и фантазер, - наконец неуверенно выдавил он.
- Почему фантазер?
- Да как-то оно... гм... детективно уж слишком... И спорно... хотя и
интересно... Тут тебе это несчастное происшествие, тут тебе, будто из
волшебной шкатулки, шифр. Тут тебе, как по заказу, голова, которая за сутки
такую работу проделала. Не по специальности работаешь.
- Увлекся.
- А молодчина, черт побери! Дешифровальщиком бы тебя в штаб. А то
иногда месяцами бьются. Что сейчас думаешь делать?
- Буду искать это место.
- Где ты его отыщешь? Разве что всю страну перекопать?
- Поеду в Ольшаны. Книга найдена там. Книга принадлежала Ольшанским, о
чем можно судить по инициалам и по совпадению исторических событий и
шифровки...
- Ну, занимайся, занимайся...
Я был немного обижен этим безразличием:
- А тебя разве это не заинтересовало?
- Да что тебе сказать, хлопец... Не в нашей это компетенции. Ни моей,
ни Щуки.
- То есть как это? А если, действительно, Пташинский не захлебнулся, а
убит, потому что кто-то боялся, что он стоит на пороге какого-то открытия?
- А ты уверен, что он убит?
- Да, - после паузы ответил я.
- Однако же и экспертиза, и следствие, и все против этого.
- Я уверен, - сказал я. - Вопреки экспертизе, следствию, черту, вопреки
всему. Что-то во всем этом жуткое. Я предчувствую это интуитивно.
- Предчувствовать - твое личное дело, - сказал Хилинский. - Ты лицо
частное и можешь позволить себе такую роскошь. А вот когда начинает
"интуитивно предчувствовать" правосудие, юстиция, само государство...
тогда...
Он нервно отхлебнул коньяка.
- ...тогда начинается - бывали уже такие случаи - охота на ведьм,
маккартизм, папаша Дювалье, да мало ли кто еще. А потом всем приходится
долго, десятилетиями платить за это, рассчитываться. Даже невиновным.
Слишком это дорого обходится.
Хилинский допил рюмку.
- Слушай, хлопче, не обижайся на меня, но это так. Ты потрясен смертью
друга, ты не веришь, что он мог вот так, сам уйти от тебя. Ты ищешь
возможность отомстить, чтобы стало немного легче. Но тут ничто не говорит в
пользу мести. Даже звонки, объяснение которым имеется. Да, кто-то искал в
квартире. Кто-то усыпил собак. Но это могли быть обычные барыги, они
выследили отъезд твоего друга и воспользовались этим.
- Они искали книгу.
- Возможно. Но даже если это и так, даже если они смутно знали про
открытую вами с Марьяном тайну, даже если они и вы столкнулись на одном пути
к ней - это не имеет отношения к смерти Пташинского. Это случай, совпадение.
Поверь мне, экспертиза была предельно тщательной, скрупулезной. Об этом
позаботились, поверь мне. У него было очень больное сердце. Он мог прожить
еще годы, а мог и умереть каждый день. И потому Щука, наверное, будет дальше
вести расследование по делу взлома, но никому из них нет дела до того, что
сегодня открыл ты.
Закурил.
- Как тебе объяснить? Ну вот: имеются сведения, что в Кладно где-то
спрятан архив айнзатцштаба. Знаешь, что это такое?
- Знаю. Ведомство Розенберга. Грабеж ценностей.
- Правильно. Закопал некто Франц Керн с другими. Вот это дело людей,
которых я когда-то хорошо знал. А события почти четырехсотлетней давности -
это не наше дело. Ты бы еще попросил расследовать убийство Наполеона.
- И попросил бы. Делали же анализ его волос на присутствие мышьяка. В
современной следственной лаборатории. Выяснили: был отравлен.
- Ну, такую услугу и я тебе могу оказать. Что тебе нужно?
- Сделать анализ чернил. Посмотреть книгу в инфракрасных лучах. Ну и
прочее. Полное обследование.
- Почему не сделать? По-дружески. Почему не помочь? Да и вообще
интересно. А остальное - ты открыл, ты и делай. Помнишь, как ты дело
Достоевской-Карлович восстанавливал и распутывал. Только для интереса мне
рассказывал. И тут то же самое. Ну, логично, если хочешь, будем обдумывать
вместе. Гимнастика для мозгов. Ну, разве юридический совет Щука может дать,
да и то - ты юриспруденцию того времени лучше знаешь. Право очень сильно
меняется. Сам и распутывай. Подмоги не ищи. Дай бог Щуке со своими
документами и находками справиться.
Подлил мне коньяка:
- Интересная для тебя штука. Просто "остров сокровищ". А как насчет тех
точек? Ну, 9с, 20в... Неужели и вычислительная машина тут ничего не сделала
бы?
- А что она сделает? Простейший пример - "Вова - дурань". 1н, 1д и т.д.
Перебрала все варианты и выдала, да почему-то по-русски: "На дурь, Вова". Я
не могу все варианты перебрать, выбрать единственно верный, ну и у нее такая
же логика.
- Мало утешает, - сказал Хилинский.
- Она выдаст все варианты, которые имеют хотя бы какой-то смысл, сотни
тысяч, но выбор сделать не сумеет. У нее формальная логика. Поэтому человек
заранее и отказывается от таких задач.
- Ясно, - сказал Хилинский. - Значит, сознательное признание
умственного банкротства. Невозможности узнать.
- Вздор, - возразил я. - Отказ заранее - не свидетельство бессилия
человеческой логики. Человек может сделать правильное заключение на
основании далеко не полной информации. И может заранее предвидеть, что
никакая информация не даст возможности сделать вывод. И этот отказ заранее
от неразрешимой задачи не свидетельство бессилия, а, наоборот, свидетельство
всемогущей силы человеческой логики.
- Что же, бейте на всемогущество. Признаться, немного завидую вам.
- Ну вот, - сказал я. - Сейчас пойду отсыпаться.
- Разбуди, когда раскинет ветви по-весеннему наш старый сад, - мрачно
сказал он.
За окном была надоедливая апрельская слякоть.
...Я открыл дверь и сразу почувствовал, что в моей квартире кто-то
есть. Снял туфли и прошел в кабинет. Так и есть: сладковатый сигаретный дым.
На диване, подобрав под себя красивые ноги, сидела и грела руками
ступни женщина.
- Зоя?
- Да, ты не ожидал?
- Давно?
- Видишь, только зашла. Ноги окоченели.
Я принес халат и набросил ей на ноги.
- Спасибо. Я столько ходила по этой слякоти. Столько ходила.
Странный был у нее вид. Как будто накапала в глаза беладонны. Зрачки
огромные, застывшие. Губы белые, словно она поджала их. Я поначалу испугался
было.
- Что с тобой?
- Ничего. Ты хочешь спросить, зачем я здесь? Видишь, приползла. Знаешь,
как не очень умная собака. Умные идут за последним в лес. Я только зашла,
чтобы отдать тебе ключ. Вот он, на столике.
- А я о нем и забыл, - чистосердечно признался я. - Есть хочешь?
Выпить?
- Ничего не надо.
Она умолкла.
- Послушай, ведь я тебе говорил уже и еще скажу: бросим это, оставайся
- и все. Только откровенно - слышишь? - откровенно все скажем ему.
- Да нет, - почти беззвучно сказала она. - Не имеем права. Я не имею
права. Обман. Ни на что я больше не имею права.
- Перестань себя истязать, - начал я утешать ее. - Ну, случилось, ну,
подумаешь... Чушь, гиль какая-то... Покончим с этим, и все.
- Не чушь, - сказала она. - Я и пришла, чтобы покончить. Больше не
приду. Вот только погляжу и... Ничего, ты скоро забудешь, что случилось. И
ты меня жестоко не суди.
- Да я и не думаю, - улыбнулся. - Ну, давай выпьем немножко
"немешанного кадара".
- Давай, - улыбнулась она влажными глазами. - Только давай будем здесь.
Никуда не пойдем.
Я расчистил стол от следов ночной работы и поставил на него что было.
- Что ты собираешься делать в ближайшие дни?
- Пока ничего. Дня через три уеду.
- Куда?
- В Ольшаны, по делу. Это под Кладно. Деревня.
- Надолго?
- Недели на три, может, на месяц.
- Ну вот, значит, прощай. Может случиться, что и встретимся. Случайно.
Кто знает, где оно, что и как.
- Послушай, Зоя. Я тебе еще раз говорю...
- Не говори глупостей. И не повторяй этого. Сам знаешь, женская
слабость. Но только не со мной. Я уже решила.
- Не буду. Хотя мне плохо. Но, возможно, я смогу переубедить тебя.
- Посмотрим, посмотрим...
Странные, странные глаза.
- А что ты эти дни делал?
- Да тут головоломку одну древнюю решал.
- И решил?
- Не совсем. Не до конца.
- Ну, помогай тебе бог. Пусть тебе повезет. Ты же, смотри, возьми
теплые носки. Несколько пар. В деревне еще слякоть. Блокнотов пару. Сигарет.
Кофе растворимого, потому что там не достанешь. И ручек пару заправь. И
пленок возьми для аппарата. И нож. И бритву.
Что-то нарочитое и неуверенное было в этой заботливости. Так, наверное,
жена отправляет в дорогу мужа, изменив ему или зная, что непременно изменит,
что высший, непреклонный рок неотвратимо ведет ее к этому.
- Все возьму, - сказал я. - У меня список. Я - опытный командированный.
И вообще... методичный старый холостяк.
- Не надо тебе больше им оставаться. Слышишь, прошу тебя. Плохо это
кончается.
- Ну, конечно, кто женится - у того жизнь собачья, зато смерть
человеческая, а кто нет - у того собачья смерть, зато жизнь человеческая, -
неудачно пошутил я.
- При нынешних родственных чувствах и смерть не всегда бывает
человеческая, - подхватила она.
- Да что с тобой?
- Плачу, - ответила она. - И над тобой. И над всеми. - И вдруг поймала
в воздухе выключатель бра, нажала на него.
- Иди ко мне, - голос был хрипловатый и отчаявшийся. - Последнее наше с
тобой... мгновенье... Прости меня.
В тоне ее было что-то такое, что нельзя, невозможно было сказать "нет".
�x x x�
Через час я провожал ее. И сколько ни убеждал ее, чтобы она осталась,
сколько ни уговаривал, сколько ни говорил, что завтра сам пойду к ее мужу,
она, бледная, только отрицательно качала головой.
- Не провожай меня. Ну вот, я не хотела, чтобы не было этого вечера,
чтобы не вспоминал. А теперь я пойду. Я страшно устала.
Мы стояли в подъезде, и, когда в него вошел Хилинский, распечатывая
пачку сигарет, она даже на мгновение не оторвалась от меня.
Хилинский, проходя мимо нас, сделал незнакомое лицо. А она, не успел он
подняться и на несколько ступенек, припала к моим губам.
- Помни... Прости... Не поминай меня, пожалуйста, лихом. Прощай.
Оторвалась от меня и выбежала в дверь, под дождь, который нещадно
поливал весь огромный город, все его мокрые блестящие крыши и голые деревья.
...Хилинский все еще возился с ключом, и я остановился возле него
закурить.
- Печальная, - вдруг сказал он. - Горестно-печальная.
- Вам странно? - сухо спросил я.
- Немного, - ответил он. - Не мое это дело, Антон, но я думаю, что знаю
людей. И... как мне кажется, она не относится к типу чувствительных. Ту-уго
знает, что, как и зачем. Даже когда чулки покупает, даже когда в первый раз
поцелуй дарит. Ну, это все же лучше, чем какая-то красотка, которая петуха
от кур гоняет "за задиристость"... Опечаленная... Видно, что-то серьезное
случилось.
- Это моя бывшая приятельница, - сказал я.
- Одобряю.
- Что бывшая?
- Нет, что приятельница.
- Мое поведение люди когда-то назвали бы предосудительным, - горько
сказал я.
Я не стал объяснять почему, но он, видимо, понял.
- Себе ты это можешь простить? Тогда зачем осуждать за то же самое
других? И кто имеет право осуждать?
Разговор становился чертовски неприятным. Мы оба чувствовали себя
неловко. Он потому, что вмешался в чужие дела, которые его не касались. Я же
потому, что, ища человеческого голоса, сочувствия в нем или хотя бы тени
сочувствия, непростительно распустил язык. Божьим даром было появление в это
время свежего человека, да еще с такими предметами в руках, что у всякого
глаза полезли бы на лоб.
По лестнице поднимался Ксаверий-Инезилья Калаур-Лыгановский с медным
ликом. Его беспощадные глаза смотрели поверх круглого щита; вооружен он был
копьем со здоровенным бронзовым наконечником.
- Готово, - тихо сказал я, - достукался с пациентами. Ну, по крайней
мере, не Наполеон. Еще одна, свежая мания.
- И он увидел на стене зловещий, черный призрак Деда Мороза, - сказал
Лыгановский, смущенно улыбаясь, и объяснил: - Несу вот художнику. Масайские
копье и щит. Аксессуары для картины. Нарисует, а за это обещал
реставрировать.
- А я подумал, что, наконец, появилась новая мания, что это вы входите
в роль Чомбе, - сказал я.
- Ну, что вы! Не так уж плохо идут мои дела. И не так низко я пал.
- Откуда это у вас? - спросил Хилинский.
- А вы бы зашли как-нибудь ко мне.
- Не так уж плохо идут мои дела, - с иронией повторил его слова
Хилинский.
- Догадываюсь, поскольку вы еще здесь, а не в моем департаменте. А вы
просто зайдите посмотреть, - сказал психиатр.
- Любопытно, - заметил я. - Прямо хоть в музей.
- А у меня и есть... почти музей. Оно все и пойдет когда-то в музей.
Бронза наконечника была покрыта такой тонкой насечкой, что я был
заворожен.
- В самом деле, откуда такое чудо?
- Я, мой дорогой, медицину в Праге штудировал.
Закурил с нами.
- Чехи тогда стипендии давали... угнетенным. Украинцам, лужичанам, нам.
Но работу на родине найти было нельзя... Ну и рассеялись по земному шару.
Где я только не работал! И в Индии на эпидемии холеры, и в Нигерии на сонной
болезни, и черт еще знает где. Приходилось быть мастером на все руки. А что
поделаешь? Человек, когда умирает, знает лишь слово "лекарь", и плевать ему
на такие понятия, как "фтизиолог" или "психиатр". Наконец, при многих
болезнях бывают интереснейшие отклонения в психике. И мы очень плохо их
знаем, очень мало ими занимались.
- И сколько же лет вы нюхали эту экзотику? - поинтересовался я.
- Хватило. Лет десять. Возвратился в тридцать восьмом году.
Погасил сигарету.
- Вот вы и зайдите как-нибудь. Не в качестве пациента, а посмотреть.
Пациентами не надо.
- Самые резонные слова, которые я когда-нибудь слышал, - сказал
Хилинский.
Мы захохотали. Доктор полез дальше, держа копье наперевес.
- Последний оплот белых колонизаторов и гиен империализма пал на исходе
этого дня, - буркнул Хилинский. - Молодая Африка расправила крылья навстречу
трудной, но оптимистической весне.
- Вы их там только не... - сказал я. - Не "ньям-ньям" или как это?
- Два дня как перестал ньям-ньям, - ответил сверху Лыгановский. - А
будете издеваться над прогрессивными явлениями, Космич, я спущу этот щит вам
на голову.
Мы посмеялись и разошлись по квартирам.
...Настроение у меня все последующие дни было отвратительное. Я
улаживал свои дела, но даже это не могло заставить забыться.
Я добился разрешения на обследование замка в Ольшанах, получил в
институте бумагу о том, кто я такой и что райисполком просят содействовать
мне в обследовании костелов, церквей и других старинных построек.
Собирал понемногу вещи. И все не мог и не мог забыть тот последний
вечер.
Надо было еще отвезти к отцу собак и купить то, что трудно достать в
деревне. И я заблаговременно договорился насчет кофе с продавщицей, моей
"блатмейстерицей", и с Пахольчиком насчет десяти блоков "БТ" и камушков к
зажигалке, и купил по совету Зои блокноты, носки и кое-что для аптечки.
Все уже было готово, даже бутылочка чернил для вечного пера в
полиэтиленовом мешочке и книга 1908 года издания "Ольшаны (Княжество,
староство и уезд Ольшанский в их историческом бытии)". Купил я еще
шестнадцать "шестидесятпяток" и три цветных "ДС", достал у знакомого
фотографа десять широких "орвоколоров", а у знакомого продавца - десять
"орвоколоров" узких. Достал хорошего чая и починил свой "Харкiв". Наточил
ножик, купил пластырь, чтобы заклеивать футляры для кассет, и... Словом,
работы мне хватило, и я постарался сделать запасы, чтобы не портить
коммерции столичным продавцам.
Но перед отъездом мне необходимо было сходить на квартиру к Марьяну
(передачу вещей в музей разрешили отложить до моего возвращения из Ольшан).
Я не хотел туда идти без свидетелей, а главное, потому, что это было бы
слишком тяжело - идти туда одному. Поэтому я зашел к Хилинскому, и Абель с
Бобкин-стрит согласился составить мне компанию. Вернее, охотно прервал свое
сегодняшнее dolce far niente*.
______________
* Сладкое ничегонеделание (итал.).
На улице девушки все еще часто заглядывались на него: высокий, но не
такой дылда, как я, "треугольный", плечистый, ко почти совсем без бедер. Я
искренне сожалел, что пропадает зря такой великолепный образец рода
человеческого, но в то же время до глубины души жалел его и понимал. А
вообще-то, он достоин был не сожаления, а, скорее, удивления и уважения.
Сердце мое снова больно сжалось перед дверью, когда подумал, что не
услышу я собачьего лая, не откроет мне дверь мой друг. И в квартире разило
нежилым, застоявшимся воздухом. Я открыл форточку, взял себе несколько его
любимых книг, небольшую модель корабля (никто уже, кроме меня, не знал, как
он всю жизнь мечтал о море, но была война, было угробленное сердце), снял со
стены одну гравюру из ценных, но не музейных и подарил ее Адаму:
- Ну, вот и все.
И тут я заметил на столике возле кресла книгу. Я знал - тут всегда
лежали последние книги, которые он читал, и захотел поглядеть, что это было,
последнее.
Это была "Книга джунглей". Я решил взять и ее, и тут из книги выпал
маленький листок бумаги. Лежал, видимо, как закладка, а осмотр помещения,
конечно же, был поверхностный.
Марьян, собирайся, возьми для вида удочки и неотложно выезжай на
Романь. Если немного задержусь - полови с часок-полтора.
Очень нужно.
Я подал записку Хилинскому.
- Что это?
- Ничего. Мой почерк. И бумага моя.
- И что же получается?
- Получается, что убил я.
Все во мне словно окаменело. Адам внимательно смотрел на меня.
- Вот что, парень, давай ты мне эту писульку, а я отвезу ее Щуке...
Хватит того, что ты на ней отпечатки пальцев оставил.
Он взял бумажку чистым листком бумаги.
- И книжку свою завтра принеси Щуке. В самом деле, здесь что-то не то.
И с твоей полоски сделай копию.
- Сделал.
- А полоску спрячь. Ну вот. Возьми еще и гравюру и кати домой. Я -
туда. Поезжай. А то на тебе лица нет.
...На лестнице почему-то не горел свет. Я был еще на два марша ниже
своей квартиры, когда послышался какой-то странный резкий звук. Что-то меня
насторожило, и я застыл. Скрип повторился. Я поднялся еще на один пролет,
когда снова услышал тихое, резкое скрежетанье и заметил впотьмах неясный
силуэт, тусклую человеческую тень. Кто-то взламывал замок моей квартиры. И
тогда я стал подниматься на цыпочках. Скрежет. Еще скрежет. Я был уже почти
на месте, когда тот, видимо, что-то почувствовал. Раздался звук, лязгнуло,
как будто кто-то выдирал ключ, а потом тень метнулась мимо меня, толкнула
плечом - мои книги упали - и бросилась вниз по лестнице. Несколько мгновений
я стоял ошеломленный, а потом рванул за нею, что, учитывая темень, было
нелегко.
Еще сверху я отметил, что дверь на улицу закрыта, и припустил к выходу
во двор. Во дворе на лавочке, несмотря на прохладу, сидели и покуривали
дворник Кухарчик и младший лейтенант Ростик Грибок, который вымахал в
здоровенного гриба.
- Никто не пробегал?
- Никто, Антон Глебович, - ответил Грибок.
- Товарищ Космич, - завел было дворник, - а вот...
Я махнул рукой и бросился к двери в подвал. Она была приоткрыта, потому
что огонек спички заколебался. Но она всегда была приоткрыта: никто у нас
там ничего не хранил. И на ней шевелилась еще прошлогодняя паутина. А на
пороге была пыль. "Тьфу! Не мог же он улетучиться?"
Светя спичками, я увидел, что пробки немного отвернуты, и ввернул их.
Потом вышел снова во двор и спросил курильщиков:
- Давно вы здесь?
- Пару минут, - сказал Кухарчик. - А вот как, скажите вы мне, грифель в
карандаш засовывают? Сколько уже думаю.
- Склеивают вокруг него две половинки, - сказал я, махнул рукой и
поплелся наверх.
Тут мне пришла в голову мысль, что он мог заскочить в комнату к
девушкам, и хотя я подумал, что от визга тут бы и дом рухнул, позвонил и
зашел.
Обычная, по-студенчески, по-девичьи обставленная комната, только что
несколько афиш, на которых эти красавицы были помечены самым мелким шрифтом.
На стульях (кровати были белоснежные) сидели три хорошенькие девушки и
стоял... молодой человек, на этот раз без ведра. Он был сильно в кураже и
слегка качался. А девушки хихикали, как ни в чем не бывало.
- Девочки мои, солнце жизни моей! Вы мои нефертушечки...
- Давно он здесь?
- С полчаса, - пискнула миленькая брюнеточка с лукавенькой улыбкой. -
Насмеяли-ись...
- Гоните его в шею, - посоветовал я.
И полез к себе на этаж, и только у самой своей двери меня словно
стукнуло, и я начал спускаться снова.
В это время хлопнула парадная дверь. Я бросился к ней, распахнул, но по
улице возвращался из кино народ, и какому черту там было кого заметить.
Подошел к двери в подвал: паутины нет.
"Осел с дедуктивным мышлением! Паутина ему! Под ней можно проползти, не
зацепив порога. И неужели ты думаешь, что тот не обдумал пути отступления?
Идиот! Перечница старая! Ясно, что если бы полез туда, то получил бы,
наверное, по черепу. И правильно. По такому черепу только и получать".
Но на этом вечер не закончился. Едва я успел включить свет и шлепнуться
на тахту, как зазвонил телефон. У меня всегда предчувствие, когда звонок -
плохой. Я не хотел поднимать трубку, но телефон разрывался. Пришлось снять,
и тут я услышал далекий, полный отчаяния вопль Костика Красовского:
- Антон! А-антон!
- Я. Что такое?
- Антон!!! Господи! Господи!
- Да что с тобой?
- Зо... зо... зо...
Я понял: не только что-то неладно. Случилось что-то непоправимое.
- Кастусь, успокойся.
- К... к...
- Ну что? Что?
- Зоя... умерла.
- Как? - глупо спросил я, еще ничего не понимая.
- К... к... калий циан. И записка: "Я продала своего наст-тоящего, - он
сделал ударение на этом слове, - мужа. Не вините никого, кроме меня".
- Я еду! Еду!
- Нет... нет... Я еду... Туда... - рыдания были такие, какие мне редко
доводилось слышать.
Он положил трубку. Тут на меня обрушилось все. Главное, я не знал -
почему? Что случилось в два последних прихода? Ничего. Все то же, и даже
рукописи на столе, и все на своем узаконенном месте: чистая бумага справа,
исписанная - слева, пепельница - здесь, сигареты - здесь. Мир перевернулся,
но только не для меня. И та же хмурая апрельская ночь за окном, и опять,
кажется, сечет в окна дождь. Ну, расставались. Но ведь это было давно решено
- при чем здесь вдруг ее слезы.
"Она готовилась, это ясно, теперь я понял. Почему? Если у нее было
сожаление обо мне разве что как о потерянной игрушке? У меня было немного
серьезнее, но тоже... Почему же сейчас так болит душа? Что я обманул
Красовского? Но я не знал об этом, а она не придавала всему значения. Что
вдруг изменилось?"
Я сидел и тупо глядел за окно в ночь. Потом пошел, взял том
энциклопедии. "Цианистый калий". "Применяется в процессе получения золота и
серебра из руд..." Зачем мне золото и серебро? "Очень ядовит. Признаки
отравления: лоб желтоват, синюшность на скулах и шее, губы слеплены, кожа
ледяная и сухая".
Нет, не мог я представить Зою с желтоватым лбом и ледяной кожей.
"О, боже неублажимый! Что все же случилось?"
Все было кончено между нами. Все было вообще кончено. Почему же у меня
чувство такой вины?! Я ведь уговаривал, я чуть не умолял ее остаться. И вот
конец.
Череп мой раскалывался... Книга... Лента... Шаги под окном... Смерть
Марьяна... Еще одна смерть...
Опять погасло небо.
И тут началось мое... неладное.
За окном дождь. Мокрые пятна фонарей. Тянется невидимый сладковатый
дымок табака. И вдруг мелкие разноцветные точки, как на картинах
пуантилистов, а потом словно взрыв, словно черные крылья. И тьма, я лежу на
тахте, и медленно, слоисто стелется надо мною голубой туман, в котором
возникают милые мне облики.
...Утром я позвонил Хилинскому и рассказал обо всем.
- Никуда не ходи, - встревожился он. - Ни о чем не думай. Ни об
экспертизе, ни о чем. И вообще, собирай-ка ты манатки и поезжай в свои
Ольшаны. В случае чего - не волнуйся, найдут.
�ГЛАВА IX�
Кладно. Дорога. Отрешение
Я люблю Кладно больше других городов. Люблю за уютность перепутанных,
словно паутина, залитых утренним солнцем улочек, за широкое течение реки,
змеящейся водорослями, за грифель стен и оранжево-чешуйчатую черепицу
костельных крыш, за все то, что не доконала война.
За дикий виноград, обвивающий кремовые стены, за зелень. И хотя зелени
не было, а над городом просто жарко и сине светило небо конца апреля - я все
равно понемногу стал выходить из оцепенения. Во всяком случае действовал не
по инерции.
Автобус на Ольшаны шел только под вечер, но я не зашел даже в чудесный
местный музей: мне не хотелось смотреть на вещи, мне хотелось видеть людей.
И понемногу отходить, припадая к их теплу. Первое мое "припадение"
произошло, однако, не совсем в том ключе. Я зашел во второразрядный
ресторан, один из тех, которые утром - чайная, а рестораном становятся
только во второй половине дня. И угодил к началу того, чего не терплю:
маленький оркестр готовился к своей слишком громкой музыке. Попросил
бифштекс, еще то-се и бутылку пива.
Ресторан был современный, без копий с картин Хруцкого* на стенах
(бедный художник!), но зато с росписями, на которых плыли разные
"царевны-лебеди" и "лады" (будь они неладны, девами бы им старыми остаться
или замуж далеко выйти, да чтоб им бог семь дочек дал!). До ужаса не
гармонировала со всем этим мебель: шкафчики для посуды, столы, стулья и
тяжелая старая стойка. И здесь уже и сейчас было хмельно и сильно накурено.
______________
* Хруцкий Иван Трофимович (1810-1885) - белорусский портре
, годовой или даже более долгий срок.
И, значит, это предложение надо было читать приблизительно так:
"...страж лобного места. Видать, а не найдешь, потому что замазано под
сводом этим".
Смысл был маловразумителен - автор пренебрегал всякой грамматикой, даже
падежами - но от этого не менее страшен. А можно было, расставив иначе знаки
препинания, понять все это и так:
"Лобное место видимое, но не найдешь, потому что замазано под сводом
этим".
Но даже при таком, все еще смутном, хотя и более понятном прочтении,
было в этой записи что-то тревожное, что-то устрашающее, чудовищно мрачное,
коварно-утонченное и гнусное. Я кожей чувствовал это. И знал, что теперь не
оставлю эту загадку, каков бы ни был ответ. Загадку, которую я должен был
разгадать в память моего друга, была она причиной его смерти или не была.
�ГЛАВА VIII�
Вновь гаснет небо
Я оторвался от бумаг. Глаза жгло, словно засыпанные песком, во всем
теле была вялость, как будто кто-то хорошенько отмолотил меня валиком от
дивана: кости целы, а шевельнуться трудно.
Когда я отдернул шторы, за окном начинало светать. Очень медленно,
тускло и неуютно. Значит, я работал целую ночь. Не случайно так адски,
убийственно болела голова. Так болела, что теперь я вряд ли смог бы
вспомнить таблицу умножения на пять.
Я ненавижу лекарства, принимал их, не считая тех случаев, когда
серьезно болел, всего раз пять за жизнь (это тоже один из моих дурацких
комплексов), но тут я не выдержал. Проглотил таблетку папаверина, полежал
минут пятнадцать и, когда боль притупилась, выбросил две пепельницы окурков,
распахнул все окна, умылся холодной водой, взрезал пачку сигарет, закурил и
стал думать, что же делать с тайной, которая мне досталась.
В этот момент послышался стук в стенку: их величество Хилинский,
наверное, желали испить со мной чайку. Тоже товарищ с комплексами. Или,
может, только заявились? Вот и хорошо, будет с кем посоветоваться. Не с кем
мне теперь, Марьян, советоваться. Совсем не с кем, брате.
Дав собакам поесть, я пошел к соседу.
Для раннего утра его квартира была уже идеально убрана.
- Не ложились еще?
- Гм, а зачем бы это я должен был ложиться?
- Работа какая-то была?
- Как всегда. Ну что, старик, пропустим по чарочке да в шахматишки?
- Коньяк? В такую рань?
- А ты что, хочешь, чтобы я в два часа ночи начинал? И, скажем, с
денатурата и пива?
- Однако в девять часов... как-то оно... Вон даже американцы считают,
что раньше пяти неудобно. Один там даже бизнес сделал: выпустил для
бизнесменов партию часов, где все цифры - пятерки. Потому что раньше пяти -
неудобно.
- Пяти утра? - спросил Хилинский.
- Ну, знаешь! - возмутился я.
- Человече, - вдруг посерьезнел Хилинский, - ты вообще-то имеешь
представление, где ты и когда ты?
- Шестнадцатого апреля. Пан Хилинский предлагает мне коньяк в девять
часов утра и сожалеет, что не предложил мне этой работы, разбудив в пять
утра. Сколько времени потеряли! Сейчас были бы уже готовенькие.
- Девять часов вечера шестнадцатого апреля.
За окном, действительно, не светало, а темнело.
- Черт, - сказал я. - Неужели, это я... сутки?.. То-то голова трещала.
- Шахматишки отменяются, - глухо сказал Хилинский, наливая рюмки. - Ну,
что случилось? Расскажи, если есть охота, как это ты дня не заметил?
Я рассказал. Он сидел, грел рюмку ладонью и напряженно думал.
- Ну и фантазер, - наконец неуверенно выдавил он.
- Почему фантазер?
- Да как-то оно... гм... детективно уж слишком... И спорно... хотя и
интересно... Тут тебе это несчастное происшествие, тут тебе, будто из
волшебной шкатулки, шифр. Тут тебе, как по заказу, голова, которая за сутки
такую работу проделала. Не по специальности работаешь.
- Увлекся.
- А молодчина, черт побери! Дешифровальщиком бы тебя в штаб. А то
иногда месяцами бьются. Что сейчас думаешь делать?
- Буду искать это место.
- Где ты его отыщешь? Разве что всю страну перекопать?
- Поеду в Ольшаны. Книга найдена там. Книга принадлежала Ольшанским, о
чем можно судить по инициалам и по совпадению исторических событий и
шифровки...
- Ну, занимайся, занимайся...
Я был немного обижен этим безразличием:
- А тебя разве это не заинтересовало?
- Да что тебе сказать, хлопец... Не в нашей это компетенции. Ни моей,
ни Щуки.
- То есть как это? А если, действительно, Пташинский не захлебнулся, а
убит, потому что кто-то боялся, что он стоит на пороге какого-то открытия?
- А ты уверен, что он убит?
- Да, - после паузы ответил я.
- Однако же и экспертиза, и следствие, и все против этого.
- Я уверен, - сказал я. - Вопреки экспертизе, следствию, черту, вопреки
всему. Что-то во всем этом жуткое. Я предчувствую это интуитивно.
- Предчувствовать - твое личное дело, - сказал Хилинский. - Ты лицо
частное и можешь позволить себе такую роскошь. А вот когда начинает
"интуитивно предчувствовать" правосудие, юстиция, само государство...
тогда...
Он нервно отхлебнул коньяка.
- ...тогда начинается - бывали уже такие случаи - охота на ведьм,
маккартизм, папаша Дювалье, да мало ли кто еще. А потом всем приходится
долго, десятилетиями платить за это, рассчитываться. Даже невиновным.
Слишком это дорого обходится.
Хилинский допил рюмку.
- Слушай, хлопче, не обижайся на меня, но это так. Ты потрясен смертью
друга, ты не веришь, что он мог вот так, сам уйти от тебя. Ты ищешь
возможность отомстить, чтобы стало немного легче. Но тут ничто не говорит в
пользу мести. Даже звонки, объяснение которым имеется. Да, кто-то искал в
квартире. Кто-то усыпил собак. Но это могли быть обычные барыги, они
выследили отъезд твоего друга и воспользовались этим.
- Они искали книгу.
- Возможно. Но даже если это и так, даже если они смутно знали про
открытую вами с Марьяном тайну, даже если они и вы столкнулись на одном пути
к ней - это не имеет отношения к смерти Пташинского. Это случай, совпадение.
Поверь мне, экспертиза была предельно тщательной, скрупулезной. Об этом
позаботились, поверь мне. У него было очень больное сердце. Он мог прожить
еще годы, а мог и умереть каждый день. И потому Щука, наверное, будет дальше
вести расследование по делу взлома, но никому из них нет дела до того, что
сегодня открыл ты.
Закурил.
- Как тебе объяснить? Ну вот: имеются сведения, что в Кладно где-то
спрятан архив айнзатцштаба. Знаешь, что это такое?
- Знаю. Ведомство Розенберга. Грабеж ценностей.
- Правильно. Закопал некто Франц Керн с другими. Вот это дело людей,
которых я когда-то хорошо знал. А события почти четырехсотлетней давности -
это не наше дело. Ты бы еще попросил расследовать убийство Наполеона.
- И попросил бы. Делали же анализ его волос на присутствие мышьяка. В
современной следственной лаборатории. Выяснили: был отравлен.
- Ну, такую услугу и я тебе могу оказать. Что тебе нужно?
- Сделать анализ чернил. Посмотреть книгу в инфракрасных лучах. Ну и
прочее. Полное обследование.
- Почему не сделать? По-дружески. Почему не помочь? Да и вообще
интересно. А остальное - ты открыл, ты и делай. Помнишь, как ты дело
Достоевской-Карлович восстанавливал и распутывал. Только для интереса мне
рассказывал. И тут то же самое. Ну, логично, если хочешь, будем обдумывать
вместе. Гимнастика для мозгов. Ну, разве юридический совет Щука может дать,
да и то - ты юриспруденцию того времени лучше знаешь. Право очень сильно
меняется. Сам и распутывай. Подмоги не ищи. Дай бог Щуке со своими
документами и находками справиться.
Подлил мне коньяка:
- Интересная для тебя штука. Просто "остров сокровищ". А как насчет тех
точек? Ну, 9с, 20в... Неужели и вычислительная машина тут ничего не сделала
бы?
- А что она сделает? Простейший пример - "Вова - дурань". 1н, 1д и т.д.
Перебрала все варианты и выдала, да почему-то по-русски: "На дурь, Вова". Я
не могу все варианты перебрать, выбрать единственно верный, ну и у нее такая
же логика.
- Мало утешает, - сказал Хилинский.
- Она выдаст все варианты, которые имеют хотя бы какой-то смысл, сотни
тысяч, но выбор сделать не сумеет. У нее формальная логика. Поэтому человек
заранее и отказывается от таких задач.
- Ясно, - сказал Хилинский. - Значит, сознательное признание
умственного банкротства. Невозможности узнать.
- Вздор, - возразил я. - Отказ заранее - не свидетельство бессилия
человеческой логики. Человек может сделать правильное заключение на
основании далеко не полной информации. И может заранее предвидеть, что
никакая информация не даст возможности сделать вывод. И этот отказ заранее
от неразрешимой задачи не свидетельство бессилия, а, наоборот, свидетельство
всемогущей силы человеческой логики.
- Что же, бейте на всемогущество. Признаться, немного завидую вам.
- Ну вот, - сказал я. - Сейчас пойду отсыпаться.
- Разбуди, когда раскинет ветви по-весеннему наш старый сад, - мрачно
сказал он.
За окном была надоедливая апрельская слякоть.
...Я открыл дверь и сразу почувствовал, что в моей квартире кто-то
есть. Снял туфли и прошел в кабинет. Так и есть: сладковатый сигаретный дым.
На диване, подобрав под себя красивые ноги, сидела и грела руками
ступни женщина.
- Зоя?
- Да, ты не ожидал?
- Давно?
- Видишь, только зашла. Ноги окоченели.
Я принес халат и набросил ей на ноги.
- Спасибо. Я столько ходила по этой слякоти. Столько ходила.
Странный был у нее вид. Как будто накапала в глаза беладонны. Зрачки
огромные, застывшие. Губы белые, словно она поджала их. Я поначалу испугался
было.
- Что с тобой?
- Ничего. Ты хочешь спросить, зачем я здесь? Видишь, приползла. Знаешь,
как не очень умная собака. Умные идут за последним в лес. Я только зашла,
чтобы отдать тебе ключ. Вот он, на столике.
- А я о нем и забыл, - чистосердечно признался я. - Есть хочешь?
Выпить?
- Ничего не надо.
Она умолкла.
- Послушай, ведь я тебе говорил уже и еще скажу: бросим это, оставайся
- и все. Только откровенно - слышишь? - откровенно все скажем ему.
- Да нет, - почти беззвучно сказала она. - Не имеем права. Я не имею
права. Обман. Ни на что я больше не имею права.
- Перестань себя истязать, - начал я утешать ее. - Ну, случилось, ну,
подумаешь... Чушь, гиль какая-то... Покончим с этим, и все.
- Не чушь, - сказала она. - Я и пришла, чтобы покончить. Больше не
приду. Вот только погляжу и... Ничего, ты скоро забудешь, что случилось. И
ты меня жестоко не суди.
- Да я и не думаю, - улыбнулся. - Ну, давай выпьем немножко
"немешанного кадара".
- Давай, - улыбнулась она влажными глазами. - Только давай будем здесь.
Никуда не пойдем.
Я расчистил стол от следов ночной работы и поставил на него что было.
- Что ты собираешься делать в ближайшие дни?
- Пока ничего. Дня через три уеду.
- Куда?
- В Ольшаны, по делу. Это под Кладно. Деревня.
- Надолго?
- Недели на три, может, на месяц.
- Ну вот, значит, прощай. Может случиться, что и встретимся. Случайно.
Кто знает, где оно, что и как.
- Послушай, Зоя. Я тебе еще раз говорю...
- Не говори глупостей. И не повторяй этого. Сам знаешь, женская
слабость. Но только не со мной. Я уже решила.
- Не буду. Хотя мне плохо. Но, возможно, я смогу переубедить тебя.
- Посмотрим, посмотрим...
Странные, странные глаза.
- А что ты эти дни делал?
- Да тут головоломку одну древнюю решал.
- И решил?
- Не совсем. Не до конца.
- Ну, помогай тебе бог. Пусть тебе повезет. Ты же, смотри, возьми
теплые носки. Несколько пар. В деревне еще слякоть. Блокнотов пару. Сигарет.
Кофе растворимого, потому что там не достанешь. И ручек пару заправь. И
пленок возьми для аппарата. И нож. И бритву.
Что-то нарочитое и неуверенное было в этой заботливости. Так, наверное,
жена отправляет в дорогу мужа, изменив ему или зная, что непременно изменит,
что высший, непреклонный рок неотвратимо ведет ее к этому.
- Все возьму, - сказал я. - У меня список. Я - опытный командированный.
И вообще... методичный старый холостяк.
- Не надо тебе больше им оставаться. Слышишь, прошу тебя. Плохо это
кончается.
- Ну, конечно, кто женится - у того жизнь собачья, зато смерть
человеческая, а кто нет - у того собачья смерть, зато жизнь человеческая, -
неудачно пошутил я.
- При нынешних родственных чувствах и смерть не всегда бывает
человеческая, - подхватила она.
- Да что с тобой?
- Плачу, - ответила она. - И над тобой. И над всеми. - И вдруг поймала
в воздухе выключатель бра, нажала на него.
- Иди ко мне, - голос был хрипловатый и отчаявшийся. - Последнее наше с
тобой... мгновенье... Прости меня.
В тоне ее было что-то такое, что нельзя, невозможно было сказать "нет".
�x x x�
Через час я провожал ее. И сколько ни убеждал ее, чтобы она осталась,
сколько ни уговаривал, сколько ни говорил, что завтра сам пойду к ее мужу,
она, бледная, только отрицательно качала головой.
- Не провожай меня. Ну вот, я не хотела, чтобы не было этого вечера,
чтобы не вспоминал. А теперь я пойду. Я страшно устала.
Мы стояли в подъезде, и, когда в него вошел Хилинский, распечатывая
пачку сигарет, она даже на мгновение не оторвалась от меня.
Хилинский, проходя мимо нас, сделал незнакомое лицо. А она, не успел он
подняться и на несколько ступенек, припала к моим губам.
- Помни... Прости... Не поминай меня, пожалуйста, лихом. Прощай.
Оторвалась от меня и выбежала в дверь, под дождь, который нещадно
поливал весь огромный город, все его мокрые блестящие крыши и голые деревья.
...Хилинский все еще возился с ключом, и я остановился возле него
закурить.
- Печальная, - вдруг сказал он. - Горестно-печальная.
- Вам странно? - сухо спросил я.
- Немного, - ответил он. - Не мое это дело, Антон, но я думаю, что знаю
людей. И... как мне кажется, она не относится к типу чувствительных. Ту-уго
знает, что, как и зачем. Даже когда чулки покупает, даже когда в первый раз
поцелуй дарит. Ну, это все же лучше, чем какая-то красотка, которая петуха
от кур гоняет "за задиристость"... Опечаленная... Видно, что-то серьезное
случилось.
- Это моя бывшая приятельница, - сказал я.
- Одобряю.
- Что бывшая?
- Нет, что приятельница.
- Мое поведение люди когда-то назвали бы предосудительным, - горько
сказал я.
Я не стал объяснять почему, но он, видимо, понял.
- Себе ты это можешь простить? Тогда зачем осуждать за то же самое
других? И кто имеет право осуждать?
Разговор становился чертовски неприятным. Мы оба чувствовали себя
неловко. Он потому, что вмешался в чужие дела, которые его не касались. Я же
потому, что, ища человеческого голоса, сочувствия в нем или хотя бы тени
сочувствия, непростительно распустил язык. Божьим даром было появление в это
время свежего человека, да еще с такими предметами в руках, что у всякого
глаза полезли бы на лоб.
По лестнице поднимался Ксаверий-Инезилья Калаур-Лыгановский с медным
ликом. Его беспощадные глаза смотрели поверх круглого щита; вооружен он был
копьем со здоровенным бронзовым наконечником.
- Готово, - тихо сказал я, - достукался с пациентами. Ну, по крайней
мере, не Наполеон. Еще одна, свежая мания.
- И он увидел на стене зловещий, черный призрак Деда Мороза, - сказал
Лыгановский, смущенно улыбаясь, и объяснил: - Несу вот художнику. Масайские
копье и щит. Аксессуары для картины. Нарисует, а за это обещал
реставрировать.
- А я подумал, что, наконец, появилась новая мания, что это вы входите
в роль Чомбе, - сказал я.
- Ну, что вы! Не так уж плохо идут мои дела. И не так низко я пал.
- Откуда это у вас? - спросил Хилинский.
- А вы бы зашли как-нибудь ко мне.
- Не так уж плохо идут мои дела, - с иронией повторил его слова
Хилинский.
- Догадываюсь, поскольку вы еще здесь, а не в моем департаменте. А вы
просто зайдите посмотреть, - сказал психиатр.
- Любопытно, - заметил я. - Прямо хоть в музей.
- А у меня и есть... почти музей. Оно все и пойдет когда-то в музей.
Бронза наконечника была покрыта такой тонкой насечкой, что я был
заворожен.
- В самом деле, откуда такое чудо?
- Я, мой дорогой, медицину в Праге штудировал.
Закурил с нами.
- Чехи тогда стипендии давали... угнетенным. Украинцам, лужичанам, нам.
Но работу на родине найти было нельзя... Ну и рассеялись по земному шару.
Где я только не работал! И в Индии на эпидемии холеры, и в Нигерии на сонной
болезни, и черт еще знает где. Приходилось быть мастером на все руки. А что
поделаешь? Человек, когда умирает, знает лишь слово "лекарь", и плевать ему
на такие понятия, как "фтизиолог" или "психиатр". Наконец, при многих
болезнях бывают интереснейшие отклонения в психике. И мы очень плохо их
знаем, очень мало ими занимались.
- И сколько же лет вы нюхали эту экзотику? - поинтересовался я.
- Хватило. Лет десять. Возвратился в тридцать восьмом году.
Погасил сигарету.
- Вот вы и зайдите как-нибудь. Не в качестве пациента, а посмотреть.
Пациентами не надо.
- Самые резонные слова, которые я когда-нибудь слышал, - сказал
Хилинский.
Мы захохотали. Доктор полез дальше, держа копье наперевес.
- Последний оплот белых колонизаторов и гиен империализма пал на исходе
этого дня, - буркнул Хилинский. - Молодая Африка расправила крылья навстречу
трудной, но оптимистической весне.
- Вы их там только не... - сказал я. - Не "ньям-ньям" или как это?
- Два дня как перестал ньям-ньям, - ответил сверху Лыгановский. - А
будете издеваться над прогрессивными явлениями, Космич, я спущу этот щит вам
на голову.
Мы посмеялись и разошлись по квартирам.
...Настроение у меня все последующие дни было отвратительное. Я
улаживал свои дела, но даже это не могло заставить забыться.
Я добился разрешения на обследование замка в Ольшанах, получил в
институте бумагу о том, кто я такой и что райисполком просят содействовать
мне в обследовании костелов, церквей и других старинных построек.
Собирал понемногу вещи. И все не мог и не мог забыть тот последний
вечер.
Надо было еще отвезти к отцу собак и купить то, что трудно достать в
деревне. И я заблаговременно договорился насчет кофе с продавщицей, моей
"блатмейстерицей", и с Пахольчиком насчет десяти блоков "БТ" и камушков к
зажигалке, и купил по совету Зои блокноты, носки и кое-что для аптечки.
Все уже было готово, даже бутылочка чернил для вечного пера в
полиэтиленовом мешочке и книга 1908 года издания "Ольшаны (Княжество,
староство и уезд Ольшанский в их историческом бытии)". Купил я еще
шестнадцать "шестидесятпяток" и три цветных "ДС", достал у знакомого
фотографа десять широких "орвоколоров", а у знакомого продавца - десять
"орвоколоров" узких. Достал хорошего чая и починил свой "Харкiв". Наточил
ножик, купил пластырь, чтобы заклеивать футляры для кассет, и... Словом,
работы мне хватило, и я постарался сделать запасы, чтобы не портить
коммерции столичным продавцам.
Но перед отъездом мне необходимо было сходить на квартиру к Марьяну
(передачу вещей в музей разрешили отложить до моего возвращения из Ольшан).
Я не хотел туда идти без свидетелей, а главное, потому, что это было бы
слишком тяжело - идти туда одному. Поэтому я зашел к Хилинскому, и Абель с
Бобкин-стрит согласился составить мне компанию. Вернее, охотно прервал свое
сегодняшнее dolce far niente*.
______________
* Сладкое ничегонеделание (итал.).
На улице девушки все еще часто заглядывались на него: высокий, но не
такой дылда, как я, "треугольный", плечистый, ко почти совсем без бедер. Я
искренне сожалел, что пропадает зря такой великолепный образец рода
человеческого, но в то же время до глубины души жалел его и понимал. А
вообще-то, он достоин был не сожаления, а, скорее, удивления и уважения.
Сердце мое снова больно сжалось перед дверью, когда подумал, что не
услышу я собачьего лая, не откроет мне дверь мой друг. И в квартире разило
нежилым, застоявшимся воздухом. Я открыл форточку, взял себе несколько его
любимых книг, небольшую модель корабля (никто уже, кроме меня, не знал, как
он всю жизнь мечтал о море, но была война, было угробленное сердце), снял со
стены одну гравюру из ценных, но не музейных и подарил ее Адаму:
- Ну, вот и все.
И тут я заметил на столике возле кресла книгу. Я знал - тут всегда
лежали последние книги, которые он читал, и захотел поглядеть, что это было,
последнее.
Это была "Книга джунглей". Я решил взять и ее, и тут из книги выпал
маленький листок бумаги. Лежал, видимо, как закладка, а осмотр помещения,
конечно же, был поверхностный.
Марьян, собирайся, возьми для вида удочки и неотложно выезжай на
Романь. Если немного задержусь - полови с часок-полтора.
Очень нужно.
Я подал записку Хилинскому.
- Что это?
- Ничего. Мой почерк. И бумага моя.
- И что же получается?
- Получается, что убил я.
Все во мне словно окаменело. Адам внимательно смотрел на меня.
- Вот что, парень, давай ты мне эту писульку, а я отвезу ее Щуке...
Хватит того, что ты на ней отпечатки пальцев оставил.
Он взял бумажку чистым листком бумаги.
- И книжку свою завтра принеси Щуке. В самом деле, здесь что-то не то.
И с твоей полоски сделай копию.
- Сделал.
- А полоску спрячь. Ну вот. Возьми еще и гравюру и кати домой. Я -
туда. Поезжай. А то на тебе лица нет.
...На лестнице почему-то не горел свет. Я был еще на два марша ниже
своей квартиры, когда послышался какой-то странный резкий звук. Что-то меня
насторожило, и я застыл. Скрип повторился. Я поднялся еще на один пролет,
когда снова услышал тихое, резкое скрежетанье и заметил впотьмах неясный
силуэт, тусклую человеческую тень. Кто-то взламывал замок моей квартиры. И
тогда я стал подниматься на цыпочках. Скрежет. Еще скрежет. Я был уже почти
на месте, когда тот, видимо, что-то почувствовал. Раздался звук, лязгнуло,
как будто кто-то выдирал ключ, а потом тень метнулась мимо меня, толкнула
плечом - мои книги упали - и бросилась вниз по лестнице. Несколько мгновений
я стоял ошеломленный, а потом рванул за нею, что, учитывая темень, было
нелегко.
Еще сверху я отметил, что дверь на улицу закрыта, и припустил к выходу
во двор. Во дворе на лавочке, несмотря на прохладу, сидели и покуривали
дворник Кухарчик и младший лейтенант Ростик Грибок, который вымахал в
здоровенного гриба.
- Никто не пробегал?
- Никто, Антон Глебович, - ответил Грибок.
- Товарищ Космич, - завел было дворник, - а вот...
Я махнул рукой и бросился к двери в подвал. Она была приоткрыта, потому
что огонек спички заколебался. Но она всегда была приоткрыта: никто у нас
там ничего не хранил. И на ней шевелилась еще прошлогодняя паутина. А на
пороге была пыль. "Тьфу! Не мог же он улетучиться?"
Светя спичками, я увидел, что пробки немного отвернуты, и ввернул их.
Потом вышел снова во двор и спросил курильщиков:
- Давно вы здесь?
- Пару минут, - сказал Кухарчик. - А вот как, скажите вы мне, грифель в
карандаш засовывают? Сколько уже думаю.
- Склеивают вокруг него две половинки, - сказал я, махнул рукой и
поплелся наверх.
Тут мне пришла в голову мысль, что он мог заскочить в комнату к
девушкам, и хотя я подумал, что от визга тут бы и дом рухнул, позвонил и
зашел.
Обычная, по-студенчески, по-девичьи обставленная комната, только что
несколько афиш, на которых эти красавицы были помечены самым мелким шрифтом.
На стульях (кровати были белоснежные) сидели три хорошенькие девушки и
стоял... молодой человек, на этот раз без ведра. Он был сильно в кураже и
слегка качался. А девушки хихикали, как ни в чем не бывало.
- Девочки мои, солнце жизни моей! Вы мои нефертушечки...
- Давно он здесь?
- С полчаса, - пискнула миленькая брюнеточка с лукавенькой улыбкой. -
Насмеяли-ись...
- Гоните его в шею, - посоветовал я.
И полез к себе на этаж, и только у самой своей двери меня словно
стукнуло, и я начал спускаться снова.
В это время хлопнула парадная дверь. Я бросился к ней, распахнул, но по
улице возвращался из кино народ, и какому черту там было кого заметить.
Подошел к двери в подвал: паутины нет.
"Осел с дедуктивным мышлением! Паутина ему! Под ней можно проползти, не
зацепив порога. И неужели ты думаешь, что тот не обдумал пути отступления?
Идиот! Перечница старая! Ясно, что если бы полез туда, то получил бы,
наверное, по черепу. И правильно. По такому черепу только и получать".
Но на этом вечер не закончился. Едва я успел включить свет и шлепнуться
на тахту, как зазвонил телефон. У меня всегда предчувствие, когда звонок -
плохой. Я не хотел поднимать трубку, но телефон разрывался. Пришлось снять,
и тут я услышал далекий, полный отчаяния вопль Костика Красовского:
- Антон! А-антон!
- Я. Что такое?
- Антон!!! Господи! Господи!
- Да что с тобой?
- Зо... зо... зо...
Я понял: не только что-то неладно. Случилось что-то непоправимое.
- Кастусь, успокойся.
- К... к...
- Ну что? Что?
- Зоя... умерла.
- Как? - глупо спросил я, еще ничего не понимая.
- К... к... калий циан. И записка: "Я продала своего наст-тоящего, - он
сделал ударение на этом слове, - мужа. Не вините никого, кроме меня".
- Я еду! Еду!
- Нет... нет... Я еду... Туда... - рыдания были такие, какие мне редко
доводилось слышать.
Он положил трубку. Тут на меня обрушилось все. Главное, я не знал -
почему? Что случилось в два последних прихода? Ничего. Все то же, и даже
рукописи на столе, и все на своем узаконенном месте: чистая бумага справа,
исписанная - слева, пепельница - здесь, сигареты - здесь. Мир перевернулся,
но только не для меня. И та же хмурая апрельская ночь за окном, и опять,
кажется, сечет в окна дождь. Ну, расставались. Но ведь это было давно решено
- при чем здесь вдруг ее слезы.
"Она готовилась, это ясно, теперь я понял. Почему? Если у нее было
сожаление обо мне разве что как о потерянной игрушке? У меня было немного
серьезнее, но тоже... Почему же сейчас так болит душа? Что я обманул
Красовского? Но я не знал об этом, а она не придавала всему значения. Что
вдруг изменилось?"
Я сидел и тупо глядел за окно в ночь. Потом пошел, взял том
энциклопедии. "Цианистый калий". "Применяется в процессе получения золота и
серебра из руд..." Зачем мне золото и серебро? "Очень ядовит. Признаки
отравления: лоб желтоват, синюшность на скулах и шее, губы слеплены, кожа
ледяная и сухая".
Нет, не мог я представить Зою с желтоватым лбом и ледяной кожей.
"О, боже неублажимый! Что все же случилось?"
Все было кончено между нами. Все было вообще кончено. Почему же у меня
чувство такой вины?! Я ведь уговаривал, я чуть не умолял ее остаться. И вот
конец.
Череп мой раскалывался... Книга... Лента... Шаги под окном... Смерть
Марьяна... Еще одна смерть...
Опять погасло небо.
И тут началось мое... неладное.
За окном дождь. Мокрые пятна фонарей. Тянется невидимый сладковатый
дымок табака. И вдруг мелкие разноцветные точки, как на картинах
пуантилистов, а потом словно взрыв, словно черные крылья. И тьма, я лежу на
тахте, и медленно, слоисто стелется надо мною голубой туман, в котором
возникают милые мне облики.
...Утром я позвонил Хилинскому и рассказал обо всем.
- Никуда не ходи, - встревожился он. - Ни о чем не думай. Ни об
экспертизе, ни о чем. И вообще, собирай-ка ты манатки и поезжай в свои
Ольшаны. В случае чего - не волнуйся, найдут.
�ГЛАВА IX�
Кладно. Дорога. Отрешение
Я люблю Кладно больше других городов. Люблю за уютность перепутанных,
словно паутина, залитых утренним солнцем улочек, за широкое течение реки,
змеящейся водорослями, за грифель стен и оранжево-чешуйчатую черепицу
костельных крыш, за все то, что не доконала война.
За дикий виноград, обвивающий кремовые стены, за зелень. И хотя зелени
не было, а над городом просто жарко и сине светило небо конца апреля - я все
равно понемногу стал выходить из оцепенения. Во всяком случае действовал не
по инерции.
Автобус на Ольшаны шел только под вечер, но я не зашел даже в чудесный
местный музей: мне не хотелось смотреть на вещи, мне хотелось видеть людей.
И понемногу отходить, припадая к их теплу. Первое мое "припадение"
произошло, однако, не совсем в том ключе. Я зашел во второразрядный
ресторан, один из тех, которые утром - чайная, а рестораном становятся
только во второй половине дня. И угодил к началу того, чего не терплю:
маленький оркестр готовился к своей слишком громкой музыке. Попросил
бифштекс, еще то-се и бутылку пива.
Ресторан был современный, без копий с картин Хруцкого* на стенах
(бедный художник!), но зато с росписями, на которых плыли разные
"царевны-лебеди" и "лады" (будь они неладны, девами бы им старыми остаться
или замуж далеко выйти, да чтоб им бог семь дочек дал!). До ужаса не
гармонировала со всем этим мебель: шкафчики для посуды, столы, стулья и
тяжелая старая стойка. И здесь уже и сейчас было хмельно и сильно накурено.
______________
* Хруцкий Иван Трофимович (1810-1885) - белорусский портре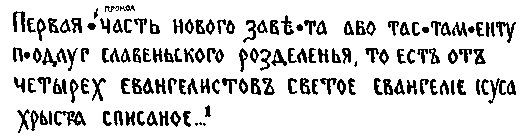 ______________
* Первая (. - прокол над буквой я) часть нового заве (. - прокол) та
или тас (. - прокол) таменту, по (далее в русском переводе места проколов не
указываются) славянскому разделению, то есть от четырех евангелистов святое
евангелие Иисуса Христа списанное (здесь и далее по главе подается перевод с
древнего белорусского языка).
Я выписывал буквы. Что-то получалось.
______________
* Первая (. - прокол над буквой я) часть нового заве (. - прокол) та
или тас (. - прокол) таменту, по (далее в русском переводе места проколов не
указываются) славянскому разделению, то есть от четырех евангелистов святое
евангелие Иисуса Христа списанное (здесь и далее по главе подается перевод с
древнего белорусского языка).
Я выписывал буквы. Что-то получалось.
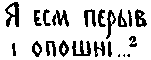 ______________
* Я есмь первый и последний...
(Это значит первы, первый - автор напутал, потому что текста книги не
хватало).
Меня подмывало взяться за апокалипсис. Как-то подсознательно я
предполагал, что основная часть тайнописи там, что мозг средневекового
человека обязательно должен был бы проводить какую-то параллель между своей
тайной и таинственностью "Откровения", что он должен как бы соревноваться в
непонятности с апостолом Иоанном.
Вы уже знаете, что под общей обложкой были переплетены без всякого
порядка и без какой бы то ни было системы книги совершенно разного
содержания. Наконец, я добрался до "Статута" 1580 года.
______________
* Я есмь первый и последний...
(Это значит первы, первый - автор напутал, потому что текста книги не
хватало).
Меня подмывало взяться за апокалипсис. Как-то подсознательно я
предполагал, что основная часть тайнописи там, что мозг средневекового
человека обязательно должен был бы проводить какую-то параллель между своей
тайной и таинственностью "Откровения", что он должен как бы соревноваться в
непонятности с апостолом Иоанном.
Вы уже знаете, что под общей обложкой были переплетены без всякого
порядка и без какой бы то ни было системы книги совершенно разного
содержания. Наконец, я добрался до "Статута" 1580 года.
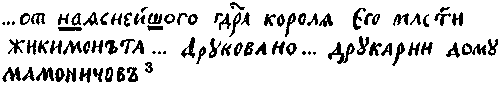 ______________
* ...от наияснейшего государя короля его милости Жикгимонта...
печатано... печатне дома Мамоничей. (Мамоничи - купцы и общественные деятели
Великого княжества Литовского, при доме которых в 1574-1623 гг. в Вильне
существовала типография).
Нашч...*
______________
* Нашч... - "Потом..."
Я ползал по этим строкам, буквам и ударениям, слепя глаза низким светом
очень сильной лампы.
______________
* ...от наияснейшего государя короля его милости Жикгимонта...
печатано... печатне дома Мамоничей. (Мамоничи - купцы и общественные деятели
Великого княжества Литовского, при доме которых в 1574-1623 гг. в Вильне
существовала типография).
Нашч...*
______________
* Нашч... - "Потом..."
Я ползал по этим строкам, буквам и ударениям, слепя глаза низким светом
очень сильной лампы.
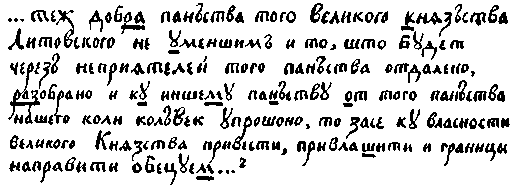 ______________
* ...тоже добра государства того великого княжества Литовского не
уменьшим и то, что будет через неприятелей того государства удалено
(отнято), разобрано и к иному государству от того государства нашего
когда-нибудь упрошено, то (мы) же (вновь) к собственности великого княжества
привести, присвоить (присоединить) и границы исправить обещаем.
...атку разумному*.
______________
* ...атку разумному - Потом... ку разумному.
Меня охватила какая-то ярость, какое-то исступление, какой-то бешеный
азарт. Все же это была шифровка начала XVII столетия. Еще был жив Лев
Сапега, еще не нахлынули шведы, еще древний язык звучал, звучал в полный
голос и в правительстве, и в суде. И постепенно на отдельном листе возникли
выписанные мной слова.
______________
* ...тоже добра государства того великого княжества Литовского не
уменьшим и то, что будет через неприятелей того государства удалено
(отнято), разобрано и к иному государству от того государства нашего
когда-нибудь упрошено, то (мы) же (вновь) к собственности великого княжества
привести, присвоить (присоединить) и границы исправить обещаем.
...атку разумному*.
______________
* ...атку разумному - Потом... ку разумному.
Меня охватила какая-то ярость, какое-то исступление, какой-то бешеный
азарт. Все же это была шифровка начала XVII столетия. Еще был жив Лев
Сапега, еще не нахлынули шведы, еще древний язык звучал, звучал в полный
голос и в правительстве, и в суде. И постепенно на отдельном листе возникли
выписанные мной слова.
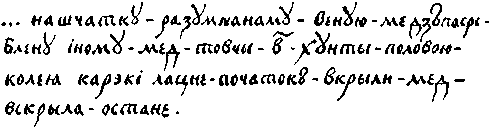 Он специально писал слова слитно, этот шифровальщик. Однако здесь он
допустил одну присущую всем людям ошибку: писал буквы наиболее густо там,
где слова делились. Я проверил, где стоит Ъ после согласной, и убедился, что
это так. И тогда я стал делить предложение на слова и одновременно
переводить его на современный белорусский язык. Мешало то, что неизвестный
любитель тайн специально нарушал современную ему белорусскую грамматику,
чтобы тяжелее было догадаться. А возможно, он недостаточно хорошо знал ее.
Но ведь совсем отступить от нее он не мог. Он все равно в той или иной мере
оставался в ее плену.
Он специально писал слова слитно, этот шифровальщик. Однако здесь он
допустил одну присущую всем людям ошибку: писал буквы наиболее густо там,
где слова делились. Я проверил, где стоит Ъ после согласной, и убедился, что
это так. И тогда я стал делить предложение на слова и одновременно
переводить его на современный белорусский язык. Мешало то, что неизвестный
любитель тайн специально нарушал современную ему белорусскую грамматику,
чтобы тяжелее было догадаться. А возможно, он недостаточно хорошо знал ее.
Но ведь совсем отступить от нее он не мог. Он все равно в той или иной мере
оставался в ее плену.
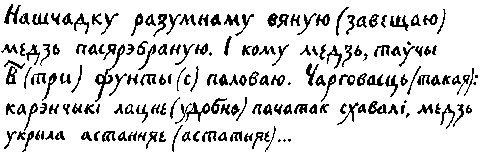 Не слишком это было понятно, но какой-то смысл намечался. Ну что же,
дальше, дальше.
Не слишком это было понятно, но какой-то смысл намечался. Ну что же,
дальше, дальше.
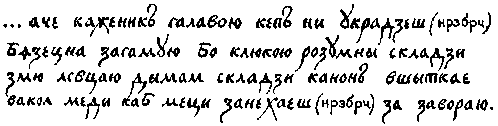 Чтоб ты сгорел со своей шифровкой, холера! Но ничего не поделаешь,
поползешь дальше, хотя наши ученые так и не удосужились за сто лет
исследований составить относительно полный словарь старобелорусского языка
(словарики в конце некоторых исторических работ в счет таковых не входят, да
и стоят немного).
Чтоб ты сгорел со своей шифровкой, холера! Но ничего не поделаешь,
поползешь дальше, хотя наши ученые так и не удосужились за сто лет
исследований составить относительно полный словарь старобелорусского языка
(словарики в конце некоторых исторических работ в счет таковых не входят, да
и стоят немного).
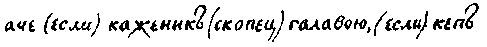 Почему-то мне пришло в голову венгерское кер, и совсем не подумалось,
что и по-польски дурак - kiep. Вот я и оказался тот самый - кепъ.
"Ежели скопец головою, дурень, (то) не украдешь (нрзбрч.) подло.
Загамую (задержу), ибо клюкою (здесь недоставало слова, но можно было
догадаться, что "клюкою" - ключом хитрости или ума). Разумный, (то) сложи
змеею, лестницею, дымом..."
Дымом? При чем тут дым?!
"Канонъ (то бишь накануне, а может, в значении сначала) вшыткое (все
целое, все до конца) вокруг меди, занехаешь (не обратишь внимания, выпустишь
из вида) (нрзбрч.) за заворою (за завалою)".
Потом я попытался перевести все это на белорусский современный язык, по
возможности упростив текст. Получилось, за исключением темных мест, так:
"Я, первый и последний, потомку разумному завещаю медь посеребренную.
Иному медь толочь, в три фунта (с) половиной. Очередность такая: корешки
удобно начало спрятали, (а) медь скрыла остальное. Ежели (ты) скопец
головой, дурак, (то) не украдешь (нрзбрч.) подло. Удержу (бо) тебя ключом
(хитрости?). (Ежели) разумный (то) сложи змеею, лестницею, дымом... Сложи
поначалу все целое вокруг меди. Не обратишь внимания (нрзбрч., может -
"останется"?) за завалою..."
Когда я записал последнюю букву, меня даже в пот кинуло. И нельзя
сказать, чтобы смысл этой записи стал более ясным после перевода. Как и
прежде, я не знал, в чем тут дело, что к чему и как?
Я подготовил себе воды с вареньем, бросил туда несколько кубиков льда,
вскрыл свежую пачку сигарет, снял туфли и завалился на тахту, покуривая и
прихлебывая воду, потому что у меня от этих дурацких лингвистических
упражнений глотку будто наждаком продрали.
Черт его знает, что-то такое, скрытое под корнями, - оно вначале.
А то, что потом, - кто-то спрятал под медью, холера на ту медь и на то
дерево с корнями. И если ты не дурак, то это что-то, эту медь, эти корни или
то, что скрыто под ними, обкрути змеей и дымом вокруг еще какой-то меди,
чтобы что-то не осталось за завалой... Ну, а если обмотаешь, то что будет?
Второе пришествие? Бульон с бобами? Фига с маком под нос?
Я поднялся, подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу.
Стояла уже ночь. В черном зеркале стекла отражалось мое лицо, огонек лампы,
а сквозь все это проступал неуютный городской пейзаж с последними огнями в
окнах и с черным асфальтом, по которому наперегонки мчались, плясали
расхлестанные, рваные, гонимые ветром водопады дождя.
Я был на грани того, чтобы все это бросить. Во всей книге пометок
больше не было, и господь его знает, что скрыл под своей тайнописью тот
древний человек, по костям которого прогрохотало уже несколько столетий.
"Брошу", - решил я.
Но в тот же миг я представил, как далеко за пределами города, на новом
кладбище, где даже и деревьев еще нет, а только прутики выбиваются из
холодной вязкой глины, лежит в этой самой ледяной персти то, что было
когда-то Марьяном, лучшим, единственным, может быть, последним моим
настоящим другом на этой клятой земле. Он завещал мне эту тайну, он
беспокоился, он, возможно, погиб из-за нее. Потому что, хоть вы меня
расстреляйте, я не верил, что все объясняется так просто: сердечным
приступом и падением в воду. Не верил. У меня было первобытное, животное
предчувствие, как у собаки, что все это не так, и если следы не найдены,
если ничто не украдено, если никто не виновен из допрошенных к настоящему
времени, то это не означает, что их нет, виновных, что новых следов не
будет. Наконец, это просто мой долг перед его памятью.
И потому я опять закурил, сжал пылающую голову холодными руками и,
собрав всю свою напряженную, холодную решимость, попытался сосредоточиться,
сконцентрировать внимание только на одном.
"Медь... змея... дым". При чем тут, к дьяволу, дым? "Медь" написана
там, как "мед"... А может, это не "медь", а "мёд"? Чушь собачья лезет вам в
голову, уважаемый товарищ Космич, чушь и бред сивой кобылы! Какой осел будет
прятать что-то там в мед? Разве что только убитого на войне знатного
человека заливали в долбленом гробу медом, чтобы довезти целым к родовой
гробнице или к бальзамировщику? Но представьте себе человека, который
расшифровывал, искал, убил на это полжизни, и все только для того, чтобы
найти труп? Это, простите, юмор висельника. И потом, что можно наматывать
вокруг меда? Нет, ясно же, что это что-то надо наматывать вокруг какого-то
медного предмета. А зачем?.. Нет, с этого конца ничего не получается...
Корни скрыли начало. Деревья с кореньями... Стоп! А почему дерево? О дереве
нигде не сказано!.. И, наконец, существуют на свете омонимы... Так... Ну,
ну... Корешок может быть не только у дерева... Корешки могут быть
табачные... Корешок может быть... у... книги. У книги, черт возьми! У книги!
Я бросился к столу, где лежала книга. Я не мог ждать, не мог обдумывать
все это дальше. Еще одного разочарования я просто не вынес бы. Я страшно
боялся и одновременно знал, что не ошибаюсь. Ведь я был идиотом, который
даже не догадался, что лучше всего можно замаскировать вещь на глазах у
всех.
Корешок плотно прилегал к листам, но не был прошит нитками, и это меня
немного успокоило. Я взял железную линейку и начал осторожно просовывать ее
за корешок. Линейка входила очень медленно и с тихим потрескиванием:
отдирался клей. И это было так же, как если бы стальной ланцет с
потрескиванием резал мою собственную плоть. Ну, конечно, это было
варварство, но я не мог больше ожидать. И я не резал по книге, а просто
отодвигал эту рыжую кожу, пусть себе и отрывая приклеенное.
Потом склею снова. Старательно и прочно.
Он, наконец, отстал. Я глянул в просвет и заметил, что там как будто
что-то желтеет. Где пинцетом, а где и помогая пальцами, я тянул, шевелил,
дергал и постепенно вытянул это желтое.
...И почти вскрикнул пораженный, когда на стол передо мной, наконец,
легла сложенная вдвое длинная лента пергамента. Длинная лента, на которой
были разбросаны буквы, начертанные старинными черными и со временем
порыжевшими чернилами-инкаустом, как называли их предки в те времена.
Я тут же измерил ее. Длина, когда развернешь, была 63 сантиметра,
ширина - 49 миллиметров. Буквы были разбросаны в полном беспорядке, но даже
там, где они составляли строку (всегда под определенным углом к полоске), я
ничего не мог понять. А между тем это не могло быть произвольной комбинацией
знаков, потому что соседние строчки звучали так:
Почему-то мне пришло в голову венгерское кер, и совсем не подумалось,
что и по-польски дурак - kiep. Вот я и оказался тот самый - кепъ.
"Ежели скопец головою, дурень, (то) не украдешь (нрзбрч.) подло.
Загамую (задержу), ибо клюкою (здесь недоставало слова, но можно было
догадаться, что "клюкою" - ключом хитрости или ума). Разумный, (то) сложи
змеею, лестницею, дымом..."
Дымом? При чем тут дым?!
"Канонъ (то бишь накануне, а может, в значении сначала) вшыткое (все
целое, все до конца) вокруг меди, занехаешь (не обратишь внимания, выпустишь
из вида) (нрзбрч.) за заворою (за завалою)".
Потом я попытался перевести все это на белорусский современный язык, по
возможности упростив текст. Получилось, за исключением темных мест, так:
"Я, первый и последний, потомку разумному завещаю медь посеребренную.
Иному медь толочь, в три фунта (с) половиной. Очередность такая: корешки
удобно начало спрятали, (а) медь скрыла остальное. Ежели (ты) скопец
головой, дурак, (то) не украдешь (нрзбрч.) подло. Удержу (бо) тебя ключом
(хитрости?). (Ежели) разумный (то) сложи змеею, лестницею, дымом... Сложи
поначалу все целое вокруг меди. Не обратишь внимания (нрзбрч., может -
"останется"?) за завалою..."
Когда я записал последнюю букву, меня даже в пот кинуло. И нельзя
сказать, чтобы смысл этой записи стал более ясным после перевода. Как и
прежде, я не знал, в чем тут дело, что к чему и как?
Я подготовил себе воды с вареньем, бросил туда несколько кубиков льда,
вскрыл свежую пачку сигарет, снял туфли и завалился на тахту, покуривая и
прихлебывая воду, потому что у меня от этих дурацких лингвистических
упражнений глотку будто наждаком продрали.
Черт его знает, что-то такое, скрытое под корнями, - оно вначале.
А то, что потом, - кто-то спрятал под медью, холера на ту медь и на то
дерево с корнями. И если ты не дурак, то это что-то, эту медь, эти корни или
то, что скрыто под ними, обкрути змеей и дымом вокруг еще какой-то меди,
чтобы что-то не осталось за завалой... Ну, а если обмотаешь, то что будет?
Второе пришествие? Бульон с бобами? Фига с маком под нос?
Я поднялся, подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу.
Стояла уже ночь. В черном зеркале стекла отражалось мое лицо, огонек лампы,
а сквозь все это проступал неуютный городской пейзаж с последними огнями в
окнах и с черным асфальтом, по которому наперегонки мчались, плясали
расхлестанные, рваные, гонимые ветром водопады дождя.
Я был на грани того, чтобы все это бросить. Во всей книге пометок
больше не было, и господь его знает, что скрыл под своей тайнописью тот
древний человек, по костям которого прогрохотало уже несколько столетий.
"Брошу", - решил я.
Но в тот же миг я представил, как далеко за пределами города, на новом
кладбище, где даже и деревьев еще нет, а только прутики выбиваются из
холодной вязкой глины, лежит в этой самой ледяной персти то, что было
когда-то Марьяном, лучшим, единственным, может быть, последним моим
настоящим другом на этой клятой земле. Он завещал мне эту тайну, он
беспокоился, он, возможно, погиб из-за нее. Потому что, хоть вы меня
расстреляйте, я не верил, что все объясняется так просто: сердечным
приступом и падением в воду. Не верил. У меня было первобытное, животное
предчувствие, как у собаки, что все это не так, и если следы не найдены,
если ничто не украдено, если никто не виновен из допрошенных к настоящему
времени, то это не означает, что их нет, виновных, что новых следов не
будет. Наконец, это просто мой долг перед его памятью.
И потому я опять закурил, сжал пылающую голову холодными руками и,
собрав всю свою напряженную, холодную решимость, попытался сосредоточиться,
сконцентрировать внимание только на одном.
"Медь... змея... дым". При чем тут, к дьяволу, дым? "Медь" написана
там, как "мед"... А может, это не "медь", а "мёд"? Чушь собачья лезет вам в
голову, уважаемый товарищ Космич, чушь и бред сивой кобылы! Какой осел будет
прятать что-то там в мед? Разве что только убитого на войне знатного
человека заливали в долбленом гробу медом, чтобы довезти целым к родовой
гробнице или к бальзамировщику? Но представьте себе человека, который
расшифровывал, искал, убил на это полжизни, и все только для того, чтобы
найти труп? Это, простите, юмор висельника. И потом, что можно наматывать
вокруг меда? Нет, ясно же, что это что-то надо наматывать вокруг какого-то
медного предмета. А зачем?.. Нет, с этого конца ничего не получается...
Корни скрыли начало. Деревья с кореньями... Стоп! А почему дерево? О дереве
нигде не сказано!.. И, наконец, существуют на свете омонимы... Так... Ну,
ну... Корешок может быть не только у дерева... Корешки могут быть
табачные... Корешок может быть... у... книги. У книги, черт возьми! У книги!
Я бросился к столу, где лежала книга. Я не мог ждать, не мог обдумывать
все это дальше. Еще одного разочарования я просто не вынес бы. Я страшно
боялся и одновременно знал, что не ошибаюсь. Ведь я был идиотом, который
даже не догадался, что лучше всего можно замаскировать вещь на глазах у
всех.
Корешок плотно прилегал к листам, но не был прошит нитками, и это меня
немного успокоило. Я взял железную линейку и начал осторожно просовывать ее
за корешок. Линейка входила очень медленно и с тихим потрескиванием:
отдирался клей. И это было так же, как если бы стальной ланцет с
потрескиванием резал мою собственную плоть. Ну, конечно, это было
варварство, но я не мог больше ожидать. И я не резал по книге, а просто
отодвигал эту рыжую кожу, пусть себе и отрывая приклеенное.
Потом склею снова. Старательно и прочно.
Он, наконец, отстал. Я глянул в просвет и заметил, что там как будто
что-то желтеет. Где пинцетом, а где и помогая пальцами, я тянул, шевелил,
дергал и постепенно вытянул это желтое.
...И почти вскрикнул пораженный, когда на стол передо мной, наконец,
легла сложенная вдвое длинная лента пергамента. Длинная лента, на которой
были разбросаны буквы, начертанные старинными черными и со временем
порыжевшими чернилами-инкаустом, как называли их предки в те времена.
Я тут же измерил ее. Длина, когда развернешь, была 63 сантиметра,
ширина - 49 миллиметров. Буквы были разбросаны в полном беспорядке, но даже
там, где они составляли строку (всегда под определенным углом к полоске), я
ничего не мог понять. А между тем это не могло быть произвольной комбинацией
знаков, потому что соседние строчки звучали так:
 И больше ничего до самого конца всей шестидесятитрехсантиметровой
полосы. Я подставил буквы.
И больше ничего до самого конца всей шестидесятитрехсантиметровой
полосы. Я подставил буквы.
 "Як латiне..." ("Как латине...") Что-то складывалось. Но почему только
это? Написал, потом раздумал и перевернул ленту? Может быть.
Первая буква на обороте Щ. Это значит Е. "Як латiне". И тут получилось.
Пя - значит ра. Что же они ра? Пако етнас? Глупости, пане мой голубчик! Но
вот десятая строка хмнв Finis подходит - куть Finis. "Як латине ракуць" (Как
латине говорят Finis). Что же, этот человек еще и здесь шифровал? Писал
первую строку, десятую, двадцатую, а потом заполнял промежутки другими
строками? Но двадцатой строкой было какое-то дурацкое am ы б. Это я
скудоумной обезьяньей частью своего "я" надумал расшифровать все с маху.
Когда я перевел литорею на обычный, нормальный человеческий язык, на
полосе появилось вот что:
I половина ленты:
"Як латiне..." ("Как латине...") Что-то складывалось. Но почему только
это? Написал, потом раздумал и перевернул ленту? Может быть.
Первая буква на обороте Щ. Это значит Е. "Як латiне". И тут получилось.
Пя - значит ра. Что же они ра? Пако етнас? Глупости, пане мой голубчик! Но
вот десятая строка хмнв Finis подходит - куть Finis. "Як латине ракуць" (Как
латине говорят Finis). Что же, этот человек еще и здесь шифровал? Писал
первую строку, десятую, двадцатую, а потом заполнял промежутки другими
строками? Но двадцатой строкой было какое-то дурацкое am ы б. Это я
скудоумной обезьяньей частью своего "я" надумал расшифровать все с маху.
Когда я перевел литорею на обычный, нормальный человеческий язык, на
полосе появилось вот что:
I половина ленты:
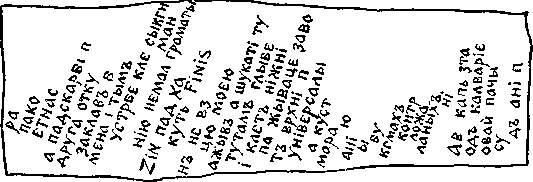 II половина ленты:
II половина ленты:
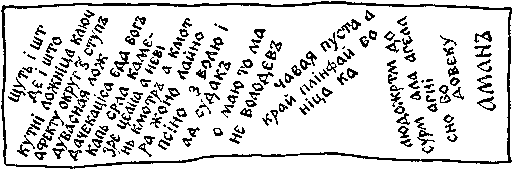 Вопрос первый: почему писал наискось? Вопрос второй: почему весь
пергамент носит следы давней измятости и почему кое-где пятна от клея?
Вопрос третий: каким методом записи пользовался тот человек?
Вот слово "капь", старая мера веса. Оно повторяется. Ясно, что эти
строки должны быть рядом, ибо скорее всего здесь что-то перечисляется. Но
между словом капь зта (золота) и капь срла (серебра, потому что на древнем
белорусском было "срэбла") не десять, а одиннадцать строк. Нет, это что-то
опять не то. Ты снова чуть не сбился на легкий путь. Снова. И потому опять
покарай себя тяжелым трудом, человек.
Думай! Как бы тебе ни казалось, что до смысла легко дойти, что способ
записи примитивный и пустяковый, - думай. Шевели мозгами. Почему полоса
измята? Почему наискось? Почему пятна клея, чистые белые куски, почему не
измят именно тот конец, на котором те, единственные на всей обратной
стороне, буквы?
В книжном шифре есть слова "...сложи змеею, лестницею, дымом... Сложи
вначале все целое вокруг меди".
И тут меня осенило! Я вспомнил один средневековый белорусский способ
пересылки тайных писем. Два военачальника, дипломата или заговорщика заранее
изготовляли себе два предмета одинаковой формы. Каждый имел при себе один.
Если надо было отослать донесение, один из них наматывал на свой предмет
полосу бумаги, длина и ширина которой были заранее оговорены. Потом текст
писали вдоль этого предмета. Затем полосу разматывали. На размотанной ленте
ничего нельзя было понять, потому что слова, части слов, даже буквы были
теперь в самых разных ее концах. Тот, кто получал донесение, наматывал его
на свой предмет под заранее оговоренным углом... и читал. Гонец не знал
содержания. Случайно попав в руки врага, он ничего не мог выдать, даже
преданный пытке. Все, даже лютые враги, знали это, и делалось такое не из-за
недоверия к гонцу, а просто чтобы человека напрасно не мучили.
Пока что все сходилось. И измятость. И строки, писанные наискось. И
пятна клея, потому что им для удобства закрепляли ленту, чтобы она не
разматывалась во время писания. И даже то, что несколько букв было на одной
стороне, а все остальное на другой. Видимо, предмет был сложной формы, и
шифровальщик перевернул полосу, чтобы она удобнее обвивалась вокруг
какого-то выступа. В самом деле, попробуйте намотать вокруг чего-то
непослушный пергамент! Это вам не покорная бумага, которая все терпит.
Все сходилось, все было, кроме... кроме того, чего я не имел и никогда
не мог иметь, - предмета, на который наматывалась лента три с половиной
сотни лет назад.
Один умный потомок имел часть чего-то очень важного, то, что "скрыли
корни". Но он не знал, в руках какого другого умного потомка находилась
"медь", то, на что надо наматывать, не знал ее формы. А значит, все мои
усилия пошли "на псы".
...Почему "на псы"? Думай, хлопец, думай! Дело, конечно, будет очень
трудным, если тот "предмет", скажем, имел форму двух конусов, сложенных
основаниями. Очень трудным, но и в этом случае выполнимым. Да только вряд ли
они пользовались предметом такой сложной формы... Чаще всего полоса
пергамента или бумаги наматывалась на жезл определенной длины... А что такое
жезл?.. Это та же самая палка... А что такое палка? Палка - это, если
определить приблизительно, тот самый цилиндр, пусть себе даже сложной
конфигурации, где потолще, а где и потоньше. Если это так, то почему бы не
решить задачу, которая казалась чрезвычайно, неизмеримо сложной мозгам
обычного, общеустановленного, заурядного средневекового человека ("наш
простой средневековый человек") и которую сейчас может решить даже ученик
девятого класса, если у него, конечно, на плечах голова, а не арбуз.
Я пишу вдоль предмета. Полоса может наматываться, навиваться на этот
предмет под любым углом. Угол между кратчайшим расстоянием по нормали
(ширина полосы), отнесенной к длине строки, есть cos a, косинус угла
намотки.
...Измерил длину строки под углом. Она составила 58 миллиметров. А
ширина самой полосы - 49 миллиметров. 49:58=0,82.
Ну вот, это уже пошло малость поинтереснее. Где это моя логарифмическая
линейка? Я ведь не пользовался ею со времен раскопок в Городище и связанной
с этим историей. Черт побери, до этого мог додуматься только отец: подсунул
ее под настенный проигрыватель, чтобы не царапал стену.
Ну, 0,82 возводим в квадрат. Получается, что наматывали под углом в
20+. К сожалению, предмет, кажется, и в самом деле был сложной конфигурации.
Судя по измятостям, он имел утолщения на обоих концах и в середине. Но это
ничего. Где угол иной - соответственно и рассчитаем. Да и, несмотря на
утолщение, шаг (угол намотки) будет один, должен быть один. Просто в таких
местах пергамент будет заламываться, заходить под следующий виток или
наползать на него и, значит, угол почти не изменится, а просто на ленте
останутся чистые, не заполненные буквами места. Что мы и видим в нашем
случае.
Теперь более сложное. Как вычислить диаметр предмета, на который надо
все это наматывать? Нужно найти хотя бы одну строчку, которая совпадает.
Скажем, написано:
Вопрос первый: почему писал наискось? Вопрос второй: почему весь
пергамент носит следы давней измятости и почему кое-где пятна от клея?
Вопрос третий: каким методом записи пользовался тот человек?
Вот слово "капь", старая мера веса. Оно повторяется. Ясно, что эти
строки должны быть рядом, ибо скорее всего здесь что-то перечисляется. Но
между словом капь зта (золота) и капь срла (серебра, потому что на древнем
белорусском было "срэбла") не десять, а одиннадцать строк. Нет, это что-то
опять не то. Ты снова чуть не сбился на легкий путь. Снова. И потому опять
покарай себя тяжелым трудом, человек.
Думай! Как бы тебе ни казалось, что до смысла легко дойти, что способ
записи примитивный и пустяковый, - думай. Шевели мозгами. Почему полоса
измята? Почему наискось? Почему пятна клея, чистые белые куски, почему не
измят именно тот конец, на котором те, единственные на всей обратной
стороне, буквы?
В книжном шифре есть слова "...сложи змеею, лестницею, дымом... Сложи
вначале все целое вокруг меди".
И тут меня осенило! Я вспомнил один средневековый белорусский способ
пересылки тайных писем. Два военачальника, дипломата или заговорщика заранее
изготовляли себе два предмета одинаковой формы. Каждый имел при себе один.
Если надо было отослать донесение, один из них наматывал на свой предмет
полосу бумаги, длина и ширина которой были заранее оговорены. Потом текст
писали вдоль этого предмета. Затем полосу разматывали. На размотанной ленте
ничего нельзя было понять, потому что слова, части слов, даже буквы были
теперь в самых разных ее концах. Тот, кто получал донесение, наматывал его
на свой предмет под заранее оговоренным углом... и читал. Гонец не знал
содержания. Случайно попав в руки врага, он ничего не мог выдать, даже
преданный пытке. Все, даже лютые враги, знали это, и делалось такое не из-за
недоверия к гонцу, а просто чтобы человека напрасно не мучили.
Пока что все сходилось. И измятость. И строки, писанные наискось. И
пятна клея, потому что им для удобства закрепляли ленту, чтобы она не
разматывалась во время писания. И даже то, что несколько букв было на одной
стороне, а все остальное на другой. Видимо, предмет был сложной формы, и
шифровальщик перевернул полосу, чтобы она удобнее обвивалась вокруг
какого-то выступа. В самом деле, попробуйте намотать вокруг чего-то
непослушный пергамент! Это вам не покорная бумага, которая все терпит.
Все сходилось, все было, кроме... кроме того, чего я не имел и никогда
не мог иметь, - предмета, на который наматывалась лента три с половиной
сотни лет назад.
Один умный потомок имел часть чего-то очень важного, то, что "скрыли
корни". Но он не знал, в руках какого другого умного потомка находилась
"медь", то, на что надо наматывать, не знал ее формы. А значит, все мои
усилия пошли "на псы".
...Почему "на псы"? Думай, хлопец, думай! Дело, конечно, будет очень
трудным, если тот "предмет", скажем, имел форму двух конусов, сложенных
основаниями. Очень трудным, но и в этом случае выполнимым. Да только вряд ли
они пользовались предметом такой сложной формы... Чаще всего полоса
пергамента или бумаги наматывалась на жезл определенной длины... А что такое
жезл?.. Это та же самая палка... А что такое палка? Палка - это, если
определить приблизительно, тот самый цилиндр, пусть себе даже сложной
конфигурации, где потолще, а где и потоньше. Если это так, то почему бы не
решить задачу, которая казалась чрезвычайно, неизмеримо сложной мозгам
обычного, общеустановленного, заурядного средневекового человека ("наш
простой средневековый человек") и которую сейчас может решить даже ученик
девятого класса, если у него, конечно, на плечах голова, а не арбуз.
Я пишу вдоль предмета. Полоса может наматываться, навиваться на этот
предмет под любым углом. Угол между кратчайшим расстоянием по нормали
(ширина полосы), отнесенной к длине строки, есть cos a, косинус угла
намотки.
...Измерил длину строки под углом. Она составила 58 миллиметров. А
ширина самой полосы - 49 миллиметров. 49:58=0,82.
Ну вот, это уже пошло малость поинтереснее. Где это моя логарифмическая
линейка? Я ведь не пользовался ею со времен раскопок в Городище и связанной
с этим историей. Черт побери, до этого мог додуматься только отец: подсунул
ее под настенный проигрыватель, чтобы не царапал стену.
Ну, 0,82 возводим в квадрат. Получается, что наматывали под углом в
20+. К сожалению, предмет, кажется, и в самом деле был сложной конфигурации.
Судя по измятостям, он имел утолщения на обоих концах и в середине. Но это
ничего. Где угол иной - соответственно и рассчитаем. Да и, несмотря на
утолщение, шаг (угол намотки) будет один, должен быть один. Просто в таких
местах пергамент будет заламываться, заходить под следующий виток или
наползать на него и, значит, угол почти не изменится, а просто на ленте
останутся чистые, не заполненные буквами места. Что мы и видим в нашем
случае.
Теперь более сложное. Как вычислить диаметр предмета, на который надо
все это наматывать? Нужно найти хотя бы одну строчку, которая совпадает.
Скажем, написано:
 И тогда развернуть ленту и измерить расстояние между слогами, замерить
его.
И тогда развернуть ленту и измерить расстояние между слогами, замерить
его.
 А эта штука равна пD.
Поищем такую строку. Есть такие строки. Вот по смыслу, пожалуй,
подходит такое: "етнас... цю моею... о маю то ма. (Шт) о маю, то ма...
етнас... цю моею". Или - "капь эта... капь срла". Молодчина, что
пересчитывал, умница, что дал мне этот ключ! Ты и не думал, что даешь мне
неизвестное тебе пD. Ты не имел и зеленого понятия, что отсюда D, диаметр
предмета, на который ты наматывал свою тайну, равен измеренному расстоянию
между совпадающими строками. Равен этому расстоянию, поделенному на 3,14.
Головастые люди твоего семнадцатого столетия тоже знали это, но знали
немного иначе - как бишь они это знали? - ага, они, насколько мне помнится,
знали это, по крайней мере, в Белоруссии, как 22:7. Что же, и это хлеб,
почти то же самое и с расхождением в четвертом знаке. Но ты вряд ли водил
знакомство с головастыми людьми. Головастые люди - они беспокоят, поэтому вы
их не любите, стараетесь не уважать, и это главная ваша ошибка во все
времена, многочтимые господа магнаты. Тайна твоя, даже для головастых твоей
эпохи, лежала на поверхности.
Вот она, твоя тайна. Твой "жезл" был диаметром в два сантиметра с
двумя-тремя миллиметрами. Диаметр утолщений на концах достигал четырех
сантиметров, утолщение на середине - трех (что бы это за предмет мог быть?
Но я этого, наверно, никогда не узнаю, да это и маловажно!). Все эти
утолщения, глубокоуважаемый, практически можно отбросить. Вот так! Напрасно
ты морочил себе голову.
...Я пошел на кухню и начал искать среди своих причиндалов какой-нибудь
предмет диаметром в два сантиметра.
И нашел. Рукоятка сковородника, которым берут с огня сковороду, была
как раз в диаметре 2 сантиметра и два миллиметра, хоть меряй кронциркулем.
Что ж, теперь подготовим три-четыре точные копии из бумаги, чтобы не
трепать пергамент, не порвать его и зря не марать клеем. Просто переведем
через копирку - и не карандашом, а концом спички - все эти буквы. Готово. Ну
вот, а дальше возьмем, парень, цилиндр вычисленного диаметра - сковородник -
и под вычисленным углом будем наматывать на него бумагу, читая текст.
Я мучился с этим долго. Приклеивал и приминал те места, где были чистые
пятна, и снова измерял угол намотки, и вел-вел дальше до посинения.
Сделано. Я приклеил конец, обождал, пока подсохнет клей, и начал читать
вдоль предмета, как будто грыз кукурузный початок. Только что глазами.
А эта штука равна пD.
Поищем такую строку. Есть такие строки. Вот по смыслу, пожалуй,
подходит такое: "етнас... цю моею... о маю то ма. (Шт) о маю, то ма...
етнас... цю моею". Или - "капь эта... капь срла". Молодчина, что
пересчитывал, умница, что дал мне этот ключ! Ты и не думал, что даешь мне
неизвестное тебе пD. Ты не имел и зеленого понятия, что отсюда D, диаметр
предмета, на который ты наматывал свою тайну, равен измеренному расстоянию
между совпадающими строками. Равен этому расстоянию, поделенному на 3,14.
Головастые люди твоего семнадцатого столетия тоже знали это, но знали
немного иначе - как бишь они это знали? - ага, они, насколько мне помнится,
знали это, по крайней мере, в Белоруссии, как 22:7. Что же, и это хлеб,
почти то же самое и с расхождением в четвертом знаке. Но ты вряд ли водил
знакомство с головастыми людьми. Головастые люди - они беспокоят, поэтому вы
их не любите, стараетесь не уважать, и это главная ваша ошибка во все
времена, многочтимые господа магнаты. Тайна твоя, даже для головастых твоей
эпохи, лежала на поверхности.
Вот она, твоя тайна. Твой "жезл" был диаметром в два сантиметра с
двумя-тремя миллиметрами. Диаметр утолщений на концах достигал четырех
сантиметров, утолщение на середине - трех (что бы это за предмет мог быть?
Но я этого, наверно, никогда не узнаю, да это и маловажно!). Все эти
утолщения, глубокоуважаемый, практически можно отбросить. Вот так! Напрасно
ты морочил себе голову.
...Я пошел на кухню и начал искать среди своих причиндалов какой-нибудь
предмет диаметром в два сантиметра.
И нашел. Рукоятка сковородника, которым берут с огня сковороду, была
как раз в диаметре 2 сантиметра и два миллиметра, хоть меряй кронциркулем.
Что ж, теперь подготовим три-четыре точные копии из бумаги, чтобы не
трепать пергамент, не порвать его и зря не марать клеем. Просто переведем
через копирку - и не карандашом, а концом спички - все эти буквы. Готово. Ну
вот, а дальше возьмем, парень, цилиндр вычисленного диаметра - сковородник -
и под вычисленным углом будем наматывать на него бумагу, читая текст.
Я мучился с этим долго. Приклеивал и приминал те места, где были чистые
пятна, и снова измерял угол намотки, и вел-вел дальше до посинения.
Сделано. Я приклеил конец, обождал, пока подсохнет клей, и начал читать
вдоль предмета, как будто грыз кукурузный початок. Только что глазами.
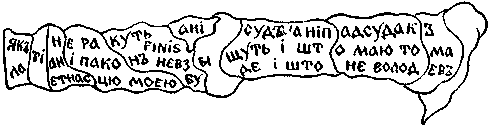 И дальше:
И дальше:
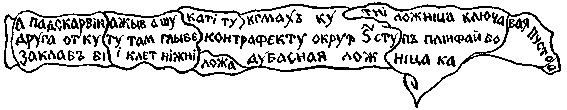 При следующем повороте цилиндра обнаружилось следующее:
При следующем повороте цилиндра обнаружилось следующее:
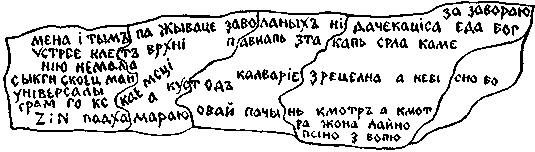 Здесь ему не хватало места, но, судя по тому, что последние слова были
бранью - "лайно (навоз, помет, отбросы), псiно (песье отродье)", - человек,
который записывал это, задыхался от ярости, горя желанием добавить еще
что-то. И потому он завернул полосу и написал на чистых местах еще несколько
слов:
Здесь ему не хватало места, но, судя по тому, что последние слова были
бранью - "лайно (навоз, помет, отбросы), псiно (песье отродье)", - человек,
который записывал это, задыхался от ярости, горя желанием добавить еще
что-то. И потому он завернул полосу и написал на чистых местах еще несколько
слов:
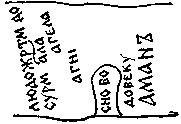 Если изобразить это по-человечески, то текст звучал так:
"Якъ латiне ракуть Finis анi судъ анi падсудакъ анi паконъ не взыщуть i
што маю, то маетнасцю моею буде i што не володевъ, а подскарбi нажывъ.
А шукатi ту кгмахъ кутнi ложнiца ключавая пуста. А друга от куту там
глыбе контрафекту окрут
Если изобразить это по-человечески, то текст звучал так:
"Якъ латiне ракуть Finis анi судъ анi падсудакъ анi паконъ не взыщуть i
што маю, то маетнасцю моею буде i што не володевъ, а подскарбi нажывъ.
А шукатi ту кгмахъ кутнi ложнiца ключавая пуста. А друга от куту там
глыбе контрафекту окрут 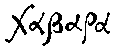 Что означает свод, сводчатый потолок.
Но что такое Z i N? Что это мне напоминает? Химическую формулу? Но
откуда в те времена взялась бы химия и ее формулы? Алхимия - это еще может
быть. Так что это, что?.. Алхимия?.. Алхимические знаки?
Я начал мучительно припоминать все еще не забытые мной с тех времен,
когда изучал колдовские процессы, алхимические знаки.
Что означает свод, сводчатый потолок.
Но что такое Z i N? Что это мне напоминает? Химическую формулу? Но
откуда в те времена взялась бы химия и ее формулы? Алхимия - это еще может
быть. Так что это, что?.. Алхимия?.. Алхимические знаки?
Я начал мучительно припоминать все еще не забытые мной с тех времен,
когда изучал колдовские процессы, алхимические знаки.