и вскоре исчезла за поворотом дороги.
Я шел к себе, и меня трясло.
Все эти дни я был на грани нервного истощения.
�ГЛАВА V,�
в которой я почти складываю лапки,
подвожу итоги поражения,
но своевременно вспоминаю
про некую оптимистическую лягушку
Не подумайте, что все эти дни я только и занимался поездками домой, в
Кладно, туда, сюда, что я увлекался исключительно анализом человеческих
характеров и отношений (хотя это и отнимало определенное время),
самоанализом, самокопанием и другими малопочтенными "само"...
Основное - это были все же поиски в третьей башне. И одному богу
известно, сколько корзин мусора мы выволокли оттуда через пролом, сколько
вынесли битого камня и всего прочего. Я заработал такие мозоли на ладонях,
каких не было с юности. Два Ивановича тоже трудились самозабвенно, причем
без всяких вознаграждений, кроме редких и (взаимных) угощений. И еще я
отвоевал у археологов шестерых учеников старших классов (были, слава богу,
каникулы), за что меня проклинали даже девушки, не говоря про Генку Седуна.
Но и они сами иногда приходили помочь.
Земли за три с половиной столетия с гаком наросло достаточно. Замок,
как и каждое старое строение, "рос в землю", но со дня на день мы должны
были уже добраться до "материка".
Ну, что еще? Перестали появляться "дама с монахом". Во всяком случае,
как бы поздно я ни возвращался в свою сторожку, мне ни разу не довелось их
видеть. Но я ни на шаг не продвинулся вперед. Точнее говоря, я продвинулся и
даже узнал много нового, только не знал, что из этого нового действительно
важное и приближает меня к цели и разгадке, а что нет. А между тем время
шло, и молодик отметил конец мая, и вот должен был прийти и принести новое
полнолуние июнь.
Одно было плохо: ночные кошмары начали повторяться с завидным
постоянством, все чаще и чаще. И особенно сильный и явственный посетил меня
в ночь моего возвращения из Кладно. Наверное, беседа с бывшим прокуратором,
спор с Клепчей, неудачи последних дней взволновали меня так сильно, что мой
организм в самом деле истощился и я балансировал на краю. По-видимому, я и в
самом деле был готов занять почетное место в "загородном доме" Лыгановского
или просто сорваться в бездну.
Дед Мультан, наверное, был в ночном обходе. Я выпил стакан холодного
чая, выкурил перед сном сигарету и завалился спать. И почти сразу забылся в
странном сне: не понять, во сне все это происходит или наяву.
...У портретов и икон на стене и на полу вдруг ожили глаза и начали с
каким-то недоумением посматривать по сторонам, вертеться, таращиться на
меня. И губы у них кривились все сильнее.
Я, как и они, почувствовал бесшумное приближение чего-то недоброго.
Еще издали в дверном проеме неожиданно и тихо открывшейся двери я
увидел, как кто-то неуловимой тенью, без единого шороха, приближается к
сторожке.
Ближе, ближе. И вдруг портреты все скосили глаза в сторону двери. В их
глазах был нечеловеческий ужас.
Нечто, которое приближалось, материализовалось на пороге и ступило в
комнату. Это нечто имело вообще-то человеческое подобие. Только шеи не было.
Затылок полого переходил в аппрофигиальные концы ключиц, в плечи. И глаз не
было, и рта. Просто на этих местах были небольшие углубления. Потому что
существо от затылка до стоп было покрыто белой и толстой, как лишайник,
длиной сантиметров в семь шерстью.
Существо приближалось в неподвижном воздухе, и портреты переводили
полные страха глаза с него на меня.
...И тут я словно разорвал невидимые цепи на руках и ногах, вскочил,
прыгнул и, каким-то чудом миновав его, бросился в дверь. Ноги не хотели
бежать, и тогда я начал делать прыжки. Так, как это всегда бывает во сне,
когда нет сил убежать от погони.
...Конь передо мною. Я взвился на него, не опершись ни ногой на стремя,
ни руками на загривок.
Чудо произошло, что ли? Но уже не было замка, костела, плебании. Была
та поляна, на которой вынужден был отпустить нас Витовт Ольшанский, и
Сташка, да нет, Ганна, рядом, и запутывание следов, подсознательное
предчувствие нами чего-то недоброго.
Такое больное, такое тревожное предчувствие какой-то неминуемой,
неотвратимой, неясной беды.
Кони бешено мчат. Убиться насмерть, но не свернуть. Вот-вот уже будет
река, и челны, и путь к Неману, а там - к свободе.
Вот и челны. Однако их что-то слишком много.
Не те челны.
И, отгораживая нас от челнов, от серебряной чешуи на воде, вытянулся
ровной линией конный аршак. Второй конный аршак.
Посланный по воде пересечь нам путь. Сразу посланный по воде, без
блуждания в чащобе и запутывания следов.
Тускло отсвечивают при лунном свете стальные и посеребренные латы.
Подняты забрала и лица всех в тени, и потому кажутся слепыми или спящими.
Свисают со шлемов султаны, волосяные, гривами, и из перьев.
Вырезные поводья отпущены. Ртутный блеск на наконечниках длинных копий,
на саблях, на булавах и боевых молотах-клевцах.
Теперь уже не убежишь. Приближается цепь всадников.
- Ну вот. Судьба не была милостивой к нам.
...И тут же какое-то каменное строение, и в него бросают разного
размера тюки, мешки, ящики. Они соскальзывают куда-то вниз, как киль по
просаленному желобу, когда корабль или ладью спускают на воду. И ночь. Ночь
потемневшая: потому что луна вот-вот скроется. А вокруг нас с Гордиславой
десяток воинов и Витовт Ольшанский на вороном коне.
- Ну вот, паны радцы*, - обращается он к воинам, - вот паны-райцы.
Обойдемся без раженья**, без судьи и подсудка***, без провста****, без
подскарбия, чтобы тот возвращенные сокровища считал. Пусть вот полежит с
ними, пока тут с проверкой этот крятун, вран этот, Станкевич, будет торчать.
______________
* Радца (или райца) - член рады, совета (здесь и далее по главе древний
белорусский язык).
** Раженье - обсуждение.
*** Подсудок - чиновник или писарь земского уездного суда.
**** Провст - ксендз.
Он указывает воинам на нас:
- Совлеките с них ризы*.
______________
* В то время не только ризы, но и обычная одежда.
Одежда падает к нашим ногам, в траву.
- Что, умет? Встретились все же. Ничего, защитник ваш спит. Ой, крепко
сонное вино. А вас? Вас я таким напою, что в свое время навеки уснете. Воры
и крадла.
- Замолчи ты, воряга, воропрят, - отвечает Валюжинич моими устами. -
Предал твой пращур Слуцкого, ограбил и князьев тех, и короля. И ты весь в
него. Меня и друзей моих продал, обобрал короля. Так что не хайлал бы ты.
Что-то ты ущипливый* больно. Вот за тую ущипливость, за насмешку над нами,
за вороватость так тебя будут щипать щипцами да клещами, что мясо с костей
полетит. Злодейству твоему свидетелей много, а главный - бог.
______________
* Ущипливый - злоехидный, ядовитый, колючий.
Он усмехается страшновато:
- Ты не надейся меня так раздразнить, чтобы я тебя на быструю да легкую
смерть отправил, да еще и столмаха* позвал бы, чтобы он вам погребательную
колесницу да гробы сразу смастерил. Не будет этого. Вспомните вы у меня еще
прошлогоднюю мякину.
______________
* Столмах - столяр, каретник, колесник.
- Пиши строчне, - после паузы обращается он к всаднику со странным
цилиндрическим предметом в руке, - ровненько в строку.
Вначале женщину, а потом и меня обхватывают под мышками петлей с
каким-то хитроумным узлом и опускают по наклонной плоскости, а потом с
какого-то карниза - прямо вниз, в черное отверстие.
Камень у меня под ногами. И тут же дернулась веревка под мышками. Ага,
это бортный узел. Дернув, снимаешь петлю с самого высокого сука. Какой-то
миг я еще вижу, как двумя змеями мелькнули вверху, в пятне, откуда едва-едва
просачивается свет, две веревки.
- Вот так, - долетает сверху голос, - тут вам и ложе, тут вам и жить, и
кончиться. Вода там в углу, капает с потолка, там кадка стоит. Видите, я вас
- свирепо да люто - не замордовал. И скарб вы в нижней кладовой получили в
наследство. И хата роскошная, округле* семь саженей. Ну вот, будете вы там
сторожами, и живым вас не докликаться.
______________
* Округле - в окружности.
Вот уже светлое пятно над головами. Слышен глухой звон обожженной
плинфы* о другую, звон кельмы о камень.
______________
* Плинфа - большой и очень плоский кирпич.
И мрак. И ничего больше. Лишь густой и жирный, как сажа, мрак.
- Ты умрешь через год, - кричу я без надежды, что тот еще меня услышит.
- Не позже!
...Я ничего не вижу. И одновременно почему-то вижу, как черный всадник
во главе конного аршака выезжает лесной тропинкой на поляну (трое каменщиков
тащатся сзади).
Черный вдруг пускает коня рысью, машет рукой.
И тут из дебрей отовсюду выезжают, выскакивают всадники. У них в руках
нет пищалей. Удивляться этому нечего, вон, вдалеке, виднеется верхушка
костельной звонницы. У них в руках длинные луки из беловежского тисса.
Звучно щелкают отпущенные тетивы о кожаные перчатки на левой руке. И роем
летят длинные-длинные стрелы с наконечниками, вываренными в отваре хвои,
коры и древесины того же тисса. Смертоносные длинные стрелы - "спасения же
от них нет".
Каменщики падают сразу. Воины еще вертятся, пытаются прорваться, но
постепенно сползают с коней на траву. Они так утыканы стрелами, что скорее
похожи на ежей, чем на трупы людей.
Вижу лицо хозяина. Губы его ядовито шевелятся. Он обводит глазами
мертвых.
- Да, правду ты говорил. Злодейству моему свидетелей много. - Он
возводит к небу глаза. - А главный - бог.
...И снова черная тьма. И вновь неожиданный свет. Замковый двор,
залитый солнцем. Огромный, вначале общинный, а потом фамильный дуб. Кипит
вокруг него пестрая толпа. Магнатская, шляхетская одежда, латы воинов,
одежды вольных крестьян. Подальше, в воротах и за воротами, белая туча
совсем простых. Из общего гула вырываются отдельные фразы.
- А всех свидетелей из тех латных людей, - это говорит подсудок, -
поставить пред очи высокого суда нельзя. Потому что той же ночью их какие-то
лихие, побродяжные, гулящие люди до смерти выбили. И те лихие люди не из
воинов, но из простых разбойников были, потому что не имели гаков ниц, а
имели луки со стрелами отравленными.
Снова содом. Всплывает умное лицо Станкевича. Рука на евангелии:
- Клянусь, что если князь утеклецов догнал, то и отпустил сразу же по
просьбе и совету моему. А что они деньги тех бунтовщиков везли и деньги его
королевского величества - того я не знал.
И после паузы:
- Только деньги те доселе нигде не всплыли. И поиск наш ничего не дал.
А всплыть должны были. Значит, спрятаны они, под завалой. И надо бы еще
дознаться, не повстречали ли беглецов другие люди Князевы.
Снова шум голосов. И уже возле подставки с евангелием сам князь.
- Фортугалем* предка моего Петра Ольшанского клянусь. - Рука его тащит
из-за пазухи золотую цепочку.
______________
* Или "португаль" - золотой медальон западной работы.
- Предка-изменника, - неслышно шевелятся губы Станкевича.
- ...а понадобится, так поклянусь и на святом евангелии. Не под пыткой,
как слуги, а по совести, что я тогда, отпустив их, с паном Станкевичем
обратно к замку поехал. А вот второй раз я их не ловил. И главное, не
убивал. А свидетели Язеп Горощук, купник*, да Протас Леванович, писарь,
клянутся, что те двое - живы. И жить будут еще столько дней, сколько
отпустит им бог. Я же ни оружием, ни плахой ускорять конец этот не буду, в
чем и слово свое кладу.
______________
* Купник - член копного суда.
И снова мрак. И далекий голос:
- Князь наш Витовт, не дождавшись конца разбора, нежданно, скорым чином
умре.
Снова мрак. Уже на вечные времена. Два стража крещеные, а третий - не
крещен.
...Собственный скрежет зубовный будит меня.
Состояние мое было в тот день никудышное. Даже встреча со Сташкой не
принесла облегчения: все время я помнил отблески ночного звездного света на
ее лице, когда "нас" опускали на арканах в яму. Последние отблески света.
Неизвестно почему мы пошли в направлении Ольшан (скорее всего потому,
что и замок, и костел, и сама Ольшанка опостылели нам, как манная каша во
времена золотого счастливого детства), и я, сам не зная зачем, рассказал ей
обо всем, не исключая и кошмаров.
- Бывает, - сказала она. - Просто человек столько думает об этом, что
мысли не оставляют его и во сне.
- А почему во сне все так, будто все знаешь?
- Отсутствие логики. И присутствие какой-то высшей логики. Во сне все
объяснимо, а восстанавливаешь наяву - черт знает, какая глупость снилась. И
наяву это мешает, а во сне - все как бы раскованное. И воображение в том
числе. Теорема из эвклидовой геометрии про пересекающиеся прямые (или линии
- вот, черт, ненужная была наука, так я всю терминологию и позабыла).
- Правильно. Кто-то из знаменитых говорил, что знаний в его книжном
шкафу больше, чем в нем самом. Однако он по этой причине не плачет. Потому
что он не шкаф, он - физик... Я тоже забыл многое из школьной премудрости,
но если уж свернули на забытую геометрию, то мои пересекающиеся линии
пересекаются за границами воображаемой плоскости, за границами яви, во сне.
- Ну и что вы теперь думаете об этом?
- Ничего.
Все еще молодая, сочная зеленая листва сплеталась над дорожкой. И по
этой дорожке шла та, которую я потерял навсегда не только в кошмарном сне.
- А знаете, - вдруг оживилась она, - оно, видимо, соответствует
действительности, ваше сонное "решение". И вправду, не прикасался Ольшанский
к вновь отбитым сокровищам, и вправду, сам пальцем не тронул пойманных. Он
их и не убивал, просто дал им самим умереть. И клятва на евангелии была
правдой, хотя и казуистической. С водой человек может прожить без еды...
ну... сколько?
- Две недели, не больше.
- Почему? Одна моя знакомая на лечебном голодании тридцать дней
выдержала.
- На лечебном. Под наблюдением врачей, а не в темнице. Необходим свежий
воздух, движения, вода - простите, регулярные промывания. В противном случае
организм отравляется продуктами своего же распада.
- Ну, по крайней мере, могли еще быть в живых, когда он клялся.
- Такая клятва да еще на евангелии не только для средневекового
человека, она и для современного... это уж совсем надо совесть потерять.
Даже и не зверем быть, а какой-то ископаемой безмозглой рептилией. Да о
таких белорусские летописцы и говорили, пусть себе и непристойно, но точно:
"Совсем бессовестный, за грош в божьем храме трахнет".
- Ого, распустили язык. Женщина все же рядом с вами.
- Извините. Но я сейчас меньше всего думал об этом. Я и живу-то в
последнее время в каком-то ином измерении.
- Так что вы намерены делать? - спросила она.
- Не знаю. Наверное, откажусь. Потому что все это страшно, как будто
приобщаешься к чему-то неизъяснимому, потустороннему... Не хочу. Психика
дороже. Она у меня одна. Занюханная, да моя.
- Нет, - задумчиво сказала она, - я на пороге разгадки не оставила бы.
Пускай бы меня хоть клещами рвали. Может, каких-то два кубометра грунта
отделяет от разгадки, а он бросит. И, главное, я ведь наверняка знаю, вы
даже не попытались систематизировать все, что вам известно. Боязливый вы
человек и непоследовательный. Да гори она ясным огнем, эта психика! Для чего
она дана человеку, если не для того, чтобы ее сжигать в случае нужды?
Мы уже дошли до автобусной остановки. Она шла надутая и очень
недовольная. И вдруг сказала:
- Послушайте, ну еще пару дней. Вот вы сегодня попытайтесь подытожить,
обобщить, систематизировать все, что знаете вы и люди. Даже то, о чем только
догадываетесь. А завтра... ну и еще послезавтра, последний день, мы с вами
вдвоем будем копать. Не найдем ничего - что же... Да нет, ищешь - найдешь.
"Толцыте и отверзнется".
Я все еще колебался, и тогда она сказала:
- Наконец, вы не должны забывать про Марьяна.
Этого она могла и не говорить. Воздержаться. Не люблю людей, которые
бьют под дых. Но женщины... женщины, если они не просто болтушки или
"котики" с глупыми гляделками и томной и пустой, незрелой и просто
назойливой красотой, почти все такие. Из-за таких пропадают глупые мужчины и
выбирают их, скажем, "мисс Испанией", "мисс Америкой" или даже "мисс
Вселенной". А они вдруг посреди самой серьезной беседы с людьми, ни в
малейшей степени не склонными к кокетству, вдруг возьмут да ляпнут: "Ваня, а
мы пойдем с тобой на "Анжелику, маркизу ангелов"? - "Нет". - "А на "Ее
последнее танго"? Или брякнет в разгар весны, да еще и агрессивно: "А я
хурмы хочу". С возрастом это, правда, иногда проходит. А если не пройдет, то
останется лишь удивляться, как вчерашняя "мисс Захлюпония", утратив
последнее оправдание своей глупости - красоту, вдруг сморозит в компании
эрудитов, указывая на "Муки Христа" в Кладненском костеле: "Вот тут, видите,
Иисус стоит перед Понтием, а тут перед Пилатом".
Наконец, может, я это просто начинаю стареть. И Сташка не такая. Но
даже если бы и была такой, я ничего этого не сказал бы при ней. Нет больших
двурушников и соглашателей, чем ослепленные чувством мужчины.
- Хорошо, - сказал я, - в конце концов, два-три дня ничего не изменят.
К остановке как раз подошел огромный "Икарус" из Кладно, и из него
повалили "потомки", приехавшие в гости и за колбасами к "предкам", и дачники
- довольно-таки несносная в своей массе порода людей. Особенно в день,
окрашенный у тебя ипохондрией.
Шли свеже урбанизированные с чемоданами, иногда даже с фанерными, и
давно урбанизированные с рюкзаками и сетками. Плелись на последнем дыхании,
как верблюды, одолевшие Каракумы, дачные мужья. И важно шествовали за ними
дачные жены с неизвестно для какого дьявола сооруженными прическами. Шел
легкомысленный одиночка, украдкой бросая на них взгляды, и шла многодетная
семья, изнемогавшая под тяжестью своих забот. Да и не только своих, но и
чужих, потому что девочка лет семи настойчиво просилась по большой нужде, а
мальчик лет четырех шел рядом и, что хуже всего, уже ни о чем не просил.
- Крестный ход в старом местечке Кладненской губернии, - прозвучал
вдруг голос Хилинского. - Тьма зевак. - И тоном заботливой квочки: -
"Ванечка, перестань пукать и смотри лучше, какие хоругви несут".
Увидев, что я не один, залился краской и - о чудо! - пустился в
объяснения:
- Извините... Но я много лет был вынужден сдерживаться и дал себе
слово, что когда будет можно, дам себе волю, рекорд поставлю по
несдержанности на язык.
- Ничего. - Сташка, к моему удивлению, весело улыбалась, рассматривая
моего "англичанина".
К нам приближался улыбчивый Адам с рюкзаком и удочками в чехле и - еще
одно чудо! - рядом с ним Хосе-Инезилья Лыгановский, тоже с удочками и
чемоданчиком.
- А я не верил, - сказал я. - Видимо, в самом деле какой-то большой
зверь в лесу подох.
- Почему? - спросил психиатр. - Что я, не имею права побить баклуши
день-другой? А вот вы почему здесь околачиваетесь?
- Околачиваться - это, собственно говоря, моя профессия, - ответил я. -
А кроме того, что я не могу встретить пополнение таких же, как и я, деловых
лодырей?
Когда все перезнакомились, мы пошли полным ходом обратно, в свою
гавань. Шли по хорошему, затененному листвой солнцу начала июня, болтали о
разных пустяках.
Устроил я Адама Хилинского на две недели да Лыгановского на день-другой
к бездетным (или, может, съехали дети куда?) соседям Шаблыки, и пошли мы
осматривать деревеньку и ее исторические памятники, не занесенные, к
сожалению, ни в группу 0 (находятся под охраной ЮНЕСКО), ни даже в третью
группу (что соответствует, по-видимому, нашим памятникам местного значения).
А почему так - не знаю.
Тут меня удивил неожиданной активностью пан Витовт Лыгановский.
- Это пруд? Хорошо. А где рыба лучше клюет? Там? Очень хорошо. А это
значит и есть костел и башня с "дзыгаром"? Чудесно. Гляди ты, а на этих
часах циферблат двойной. Внутренний, где часы - неподвижен, а внешнее
кольцо, лунное, движется. И, гляди-ка, показывает фазы или смену -
неподвижная стрелка. Ой-ей! Какой старый механизм! Знаете, ведь самые старые
кремлевские часы - на Спасской башне - тоже были с подвижным циферблатом...
А вон там ваша плебания? Шикарно... А там замок? А вот по той галерее ваши
тени ходят?
И глаза бегают от замка к костелу, от башен к городищу.
Когда он заскочил в костел поглядеть, как там, и потащил за собой
Хилинского, Сташка вдруг сказала:
- Какой живой - просто ртуть! И что-то мне кажется, что я уже с ним
знакома. Где-то мы встречались... Нет-нет, в его клинике я не лежала. И из
знакомых никто не лежал... Ну, просто вроде когда-то по телевизору видела
или во второстепенной роли в каком-то более чем второстепенном фильме.
- Вот и у меня такое чувство.
Мы отошли и сели на бревнах, а тут шли мимо и подсели к нам Ольшанский,
Шаблыка и Змогитель, а потом Высоцкий с каким-то неизвестным. Затем
подкатил, отдуваясь, вспотевший Гончаренок.
Лыгановский выбежал из костела что-то очень быстро и встрял в компанию
просто и легко. А Хилинский вышел только минут через десять и, как нарочно,
медленно поплелся к нам. Поэтому автохтонам пришлось знакомиться с вновь
прибывшими дважды.
Незнакомый, как выяснилось, был тот самый кустарный часовой мастер и
органист, который во время службы врезал "Левониху". Фамилия его была
Сгонник.
- Как же это вам удалось отремонтировать?
- А черт его знает, - смущенно опустил он глаза. - Нюх у меня с детства
на разную механику. Да и испорчены они были не очень. Ну и, честно говоря,
не на все там хватило моего нюха. Потому что часы должны были показывать еще
пасху, католическую и греко-униатскую. А вон в той нише, что под
циферблатом, праздники татарские и еврейские. Зачем им было это знать -
дьявол их разберет. Но, должно быть, какие-то костельные вычисления. Ну так
вот, здесь я оплошал, не сумел.
- Да вам-то это зачем?
- А так. Ради законченности. Хотя и без надобности, но приятно было бы
знать, когда по-татарски байрам, а по-еврейски пост разрушения храма. Чтобы
уж спокойным быть. Все сделал и сделал, как надо. И мы не глупее, чем вы
были.
Я был приятно удивлен. Хорошо рассуждал человек.
А потом он и гости разговорились и условились на завтра идти вместе
ловить рыбу и ради оной цели подняться в половине третьего, за час до
восхода солнца.
- Вот черт, неудобно, - сказал Адам, - может, вы со Станиславой имеете
какие-то виды на нас.
Я, честно говоря, обрадовался, что они не будут свидетелями последнего
дня наших бесплодных потуг, нашего бесславного поражения. И потому соврал и
за Сташку и за себя:
- Да нет. У нас на завтра свои, иные планы. Тут надо к одному дядьке
сходить. У него сохранились газеты и журналы времен оккупации, так поглядеть
охота.
- Очень интересно, - сказал Высоцкий.
- А потом... нужно один старый курганный могильник осмотреть. Не очень
далеко отсюда.
- Тем лучше, - утешились три мушкетера от рыбной ловли.
И в это время нашу только что нарожденную идиллию нарушил человек,
который все это время только и делал, что путался у меня под ногами.
Людвик Лопотуха приплелся из деревни, уселся на холмике метрах в
двенадцати от нас и сразу начал свой концерт. Только на этот раз не такой
полифонический, как всегда.
- Отойдите... Изыдите... Мой дом - моя крепость... Звери... Палачи...
На всех вас клеймо... Все вы тычками* меченные. Клеймом изуверов, выродков
рода человеческого. Ничего... Погибнете... Скоро, скоро и на вас время
придет...
______________
* Тычка - отметина, родимое пятно, клеймо (бел.).
"Тот?" - взглядом спросил у меня Лыгановский.
Я молча склонил голову.
И тут психиатр удивил меня. Впервые в жизни я был свидетелем того, как
по-настоящему надо разговаривать, как безошибочно надо поступать с
душевнобольными людьми.
Лыгановский поднялся с крыльца, твердо, но поспешно подошел к Лопотухе,
все время глядя ему в глаза, и сел немного ниже, так, чтобы эти глаза
видеть. И заговорил о чем-то тихо, спокойно и рассудительно. И глядел,
глядел, словно "навевая" гипноз, как знаменитые гипнотизеры или
старухи-ворожеи, которые иногда владели этим гипнозом ненамного хуже
Мессинга.
Странно, истерические нотки в голосе Лопотухи исчезли, он теперь
говорил тоже тихо и почти спокойно. Иеремиада уступила место спокойной
беседе, спокойным движениям рук врача и больного. А руки свои врач и больной
поочередно клали друг другу то на колено, то на плечо.
На наших глазах творилось чародейство. Мы притихли, ошеломленные тем
чудом, свидетелями которого были.
А минут через сорок Лопотуха встал, пожал врачу руку и произнес почти
спокойным, почти нормальным голосом:
- С понятием вы человек. С понятием... Но здесь надо беречься и умным.
Земля заражена. Я вот тоже был изрядно учен, а что я теперь?
Махнул рукой и пошел. Не обычной, слегка развинченной походкой, а
довольно твердой, уверенной. На повороте обернулся, помахал рукой и исчез.
Лыгановский вздохнул, подошел и сел возле нас.
- Ну как? - спросил я.
Врач пожал плечами, помолчал и, обведя нас взглядом, стал говорить:
- Не попал он в мои руки с самого начала. Давно был бы здоров. Однако
время свое возьмет. Вполне возможно, что через какой-то отрезок времени он
станет почти нормальным человеком... Во всяком случае, он на пути к этому.
- Да что с ним такое? - спросил Гончаренок.
- Историю его вы знаете. Страшная история... Ну и он, говоря популярно,
чтобы вы поняли, возвел вокруг памяти как бы защитную стену. Не желает
вспоминать прошлое. Опасно. Многие люди в таких случаях начисто забывают
прошлую жизнь. Наступает так называемая амнезия. Словом, если у таких
больных не восстанавливается память - считай, все потеряно. Как правило,
забывают даже свое имя. С самого начала было удивительно, что этот кое-что
помнит... И это кое-что, видимо, восстановилось у него приблизительно через
месяц после трагедии. Но он понял, осознал, что не все помнит, не все желает
помнить. И в этом смысле почувствовал себя слегка раскованным: попробуйте,
возьмите меня, не совсем нормального, голыми руками.
- Однако же временами кое-что, да вспоминал, - сказал Хилинский.
- Да. Для него воспоминания - это отвращение и физическая боль. И,
однако, в сознании сохранились островки и такой памяти. Innere Inseln*.
Внутренние и для внутреннего употребления. И, однако, это не симуляция
безумства, придури, дезориентации в повседневном опыте... Этого подделать
нельзя... Нельзя подделать, скажем, такое, что обувь снять не может. Это
может быть только с действительно психически больными. А этот - нет, этот не
совсем от мира сего, но ясно осознает, где он, и держит себя нормально. А со
временем будет все нормальнее и нормальнее.
______________
* Внутренние острова (нем.).
- Думаете, может вспомнить все? - спросил я.
- Многое, если не все, - серьезно ответил Лыгановский. - И это время,
этот порог не за горами.
...Расстались мы довольно рано. "Гости" пошли со Стасей на Белую Гору,
а я решил сесть и, на прощание с этим паршивым делом, подвести итоги. А
подведя то, чего нет, бросить все к дьяволу, уехать домой, вручить это "нет"
Щуке и закатиться на остальные полтора-два месяца куда-нибудь на хутор. И
работать. А может, "дикарем" куда-то на Форос или в Перевозное, где поменьше
людей, а лишь море да голые скалы.
Сел, положил перед собой блокнот. Начал записывать, стараясь соблюдать
порядок.
Ну и что там получилось, в порядке очередности:
1. Визит встревоженного Марьяна. Его разговор с каким-то человеком на
выставке. Предложение продать книгу. (Кто был этот человек? До сего времени
неизвестно.)
2. Звонки о продаже. Ночные. Ночью кто-то ходит под окнами. (Звонки от
того... Гутника. Обыкновенный книжный маньяк. Даже не спекулянт... Не он
ходил под окнами. Кто - неизвестно. Кто-то из соседей Марьяна? Вряд ли.
Милиция их наверняка проверяла. Но тут замкнутый круг. Это я не должен
умалчивать перед Щукой свои тайны, а он... Кто-то из моих соседей? Глупость.
Ни одной соответствующей кандидатуры.)
3. Ольшаны и род Ольшанских. Двойное предательство. Возможно,
присвоенные и припрятанные сокровища. (Род вымер. Бесславно. Где могут быть
сокровища? Неизвестно, если не считать неясных намеков в книге и фактов
истории о переходе от несметного богатства к среднему достатку. Ну и моих
"снов", которые никак не могут приниматься в расчет. Значит, никому не нужны
ни документы, ни родовые грамоты, да такие ценности и реализовать в наше
время - невозможно.)
4. Зоя. Ее странное поведение. То отходит, то приходит. (Ну, это ясно
почему. Решила закончить, зная, что на "роман" я не пойду. Но жалела, но ее
тянуло ко мне.)
5. Первая смерть - Марьяна. Никаких следов насилия. Слабое сердце (но
предчувствия?). Но попытка неизвестного (кто?) взломать дверь. Но усыпление
собак (кем?). Но завещание, заверенное у нотариуса (почему заботился о
нем?).
6. Зашифрованное сообщение в книге. Единственный успех и тот пока
безрезультатный. (Кому был нужен шифр и расшифровка? Опять же неизвестно.
Потомкам - их нет. Тем, что прятали приблизительно там же архив, а потом
уничтожали свидетелей этого? Вопрос: кто прятал? Непосредственные
исполнители - кто перебит, кто умер. Поручили? А кому? Знал еще кто-то? Не
знаю даже, был ли еще кто. Владел ли он этими медными предметами сложной
конфигурации, на которые надо было наматывать I ленту, или эти предметы были
в разных руках? Ничего, обошлись без них.)
7. Моя записка Марьяну. И хотя почерк мой подделан, но это написано на
моей бумаге. (Кто мог добыть ее? Марьян? Хилинский? Бред сивой кобылы.)
8. Попытка взломать дверь моей квартиры. Бегство взломщика. (Ясно,
искать хотели книгу и шифр. Но кто знал об этом? Покойник Марьян? Хилинский,
который и книгу и шифр все равно и без этого видел? Чепуха!)
9. Самоубийство Зои. В чем-то она предала своего "настоящего". Это
значит меня. (В чем предала? Кому предала? Неизвестно. Но этим, может, и
объясняются ее последние визиты.)
10. Что запрятано? Древние сокровища? Вещи, награбленные ведомством
Розенберга? Архив? Вот тут могла быть разгадка. Могла, но ее не было. Этим
могли интересоваться три человека или группы людей или один человек (группа)
в трех ипостасях. Ценности? Это ясно. Документы? Они представляют интерес
только для несуществующих наследников или музеев. Какие-то компрометирующие
материалы из архива? Возможно. Но для чего? Предохранить себя от опасности?
Или, наоборот, шантажировать ими кого-то?
11. Почему такая ненормальная обстановка в Ольшанах и Ольшанке? Попытка
разрушать кусок стены, ссора? Безумие (далеко не полное и излечимое)
Лопотухи? Был ли он свидетелем уничтожения поляков и всех других? Или сам
был в колонне и убежал?
12. Что такое тени женщины и монаха? Какой-то разлад в психике? Если
это так, то почему не один я их видел, а многие? Если какое-то природное
явление, то какое?
13. Почему все время происходят какие-то странные встречи? С
Гончаренком, с Лопотухой? Следят? Слова пьяного Вечерки о каких-то страшных
каменных яйцах. Что означали они?
14. Почему Лопотуха кричал об убийцах? Почему вопил из бойницы, что
замок - его крепость? Что он там сторожит? А может, это действительно его
убежище, когда ищет одиночества?
15. Огонек горел во второй башне. Шифрованная надпись указывала на
третью. (Существует ли здесь какая-то связь или хотя бы просто
микроскопический смысл?)
16. Местные люди, присутствующие во время немецкой акции с архивом и
расстрелом. Кто они?
17. Банды Бовбеля и Кулеша, уничтоженные нашими. (Возможно ли, чтобы
кто-то из свидетелей акции был из местных, был в банде и все же остался в
живых? Тогда он вроде бы единственный "наследник". Но вряд ли. Сомневаюсь.
Уничтожили тех бандитов подчистую.)
18. Мои кошмары. Может, действительно сам воздух Ольшанки отравлен
преступлением, подлостью, неистовством, бешенством и безумием войны?
19. Кто ночью пробивал в башне (моей, третьей) стену и вел со мной
дуэль фонарем и камнями? Лопотуха? Вряд ли. А может?
20. Кто выдал подполье, в котором был нынешний ксендз? И жив ли он,
тот? И не макал ли во все это дело пальцев ксендз с его неестественным
фантастическим способом жизни, с его катакомбами? С тем неожиданным толчком
мне в спину? Хотел помочь перепрыгнуть? Или, может, столкнуть?
21. Остался ли в живых кто-нибудь из тех, кто организовывал "санитарную
акцию"? И где они, если живы? За рубежом и имеют руки здесь? Или
присутствуют собственной персоной?
22. Мог ли узнать кого-нибудь из бандитов Гончаренок, прежде чем убежал
из-под расстрела? Нет, спрашивать не надо. Возможно, и узнал, но боится за
жизнь? Хотя с его поведением в войну это как-то не вяжется.
23. Родственники Высоцкого ни при чем. Один погиб как подлец и бестия.
Второй - как герой. Один род - и какие разные люди. Поездки в Темный Бор и в
Кладно к прокуратору, таким образом, имели своим результатом лишь
окончательное шельмование одного и реабилитацию памяти второго, а к делу не
относились.
Ну вот, двадцать три вопроса. Некоторые разделяются на два-три. И ни на
один нет ответа.
Полное поражение, полный разгром моей логики, моего разума и моего
умения разбираться в людях. Разгром, результаты которого я только что
подвел. Если бы не слово, данное Станиславе, можно было бы завтра же уезжать
отсюда. Не с твоим, брат, умом разбираться во всем этом, в чем, может, и
смысла нет, а имеется лишь стечение обстоятельств. С твоим умом, друг,
только на печке сидеть. Что ж, покончим с этим, хотя и жаль. Но что
поделаешь, если здесь невозможно собрать в одно ничем не связанные нити,
если из этих нитей никакого покрывала не соткешь. А если и соткешь, то по
рисунку и подбору цветов это будет покрывало, сотканное подслеповатым
сумасшедшим.
Я вышел на крыльцо, сел на ступеньки и безнадежно закурил. "Крахом
окончилась ваша поездочка, друг Космич".
На улице остановилась тень. Видимо, всматривалась в мой силуэт на
светлом прямоугольнике двери.
- Космич, вы? - Это был голос Ольшанского.
- Ну, я.
- Лопотухи здесь не было?
- Нет. Я что, сторож при нем?
- Да не в этом дело. Я велел ему ехать с мукой на нашу пекарню. И вот,
черт побери, конь обратно к мельнице один пришел.
- Не знаю, где он, Ничипор Сергеевич.
- Гм. Черт... чтобы его бог любил. Снова какой-то заскок, что ли?
Махнул рукой и ушел.
Над Ольшанкой уже катилась ночь. Ночь моего поражения. А деревенское
небо - не то, что в городе, - словно празднуя это поражение, высыпало
тысячи, десятки тысяч звезд, то ласковых, мигающих, а то и колючих, ледяных.
Сияло оно вот так и четыреста, и триста лет назад, и сегодня сияет, и также
безучастно будет сиять и потом, когда обо мне и думать забудут.
...Кто-то бесшумно опустился рядом со мной на ступеньку. Я и не
заметил, как он подошел. Просто уже когда был совсем близко - что-то
промелькнуло перед глазами, будто сама ночь взмахнула черным крылом.
Хилинский сидел рядом и разминал сигарету. Н-ну и ну! Теперь понятно,
почему ты, Адам, с такими талантами до сих пор не пропал и в будущем, даст
бог, не пропадешь.
- Вот... еще парой слов с тобой перекинуться надо.
- Думаешь, я не замечаю? С самого утра вокруг меня, как кот возле
сковороды со шкварками, ходишь. Все хочешь что-то сказать и не решаешься.
Словно по листочку с кочана капусты сдираешь, вместо того чтобы сразу за
кочерыжку взяться.
Хотите верьте, хотите нет, а я был ужасно зол. Может, за неотомщенную
память Марьяна, может, злила меня моя неудача, может, эта манера Щуки
никогда не говорить о главном. Только меня просто душил гнев на эту политику
умалчивания, хождения вокруг да около, разговоров недомолвками, экивоками,
намеками. Гнев. И, странно, не на кого иного, как на Хилинского. Наверное,
потому, что первым попал под руку.
- Чертова, холерная, так ее и разэтак, хамская манера. Что-то вроде
шутки невоспитанного и глупого приятеля... Посылка... Распаковываешь. Одна
бумага... вторая... Одна коробка... вторая... третья... куча коробок. И в
последней... какашка. Или что-то еще похуже... Вершина их юмора. А в старые
"добрые" времена это мог быть бриллиантовый перстень... вместе с пальцем
замученной крепостной актрисы. С пальцем, потому как добром такое редко
кончается.
Хилинский только головой покачал. А я закипал все больше: от злости на
нескладеху, самого себя.
- А среди нынешних актрис мало у кого есть очень уж ценные
бриллиантовые перстни. Если они, конечно, не за лауреатами, директорами
крупных заводов или за... администраторами по снабжению.
- Сердишься? Ну-ну, - только и сказал он.
Но меня уже начало заносить. Я говорил все это Хилинскому! Одному из
тех, кого уважал на сто процентов и на сто пятьдесят любил.
- У меня был приятель. Нессельроде. Потомок того* или нет - не знаю. Но
бабуся его была "из бывших". - Я источал яд и от злости на самого себя был
готов разорвать соседа по лестничной клетке на куски. - Одно время он был
профоргом и - хотите верьте, хотите нет, - профсоюзные взносы ему платил
рабочий Пушкин... Ну, это к делу не относится. Так вот, эта бабуся говорила
про нынешних: "Боже, это же не актрисы, это же гражданки". И правильно.
Какие там содержанки, какие оргии у "Яра"? Моей годовой зарплаты не хватит,
чтобы побить все стекла и переломать всю мебель хотя бы в "Журавинке" (не
говоря о кратчайшем пути отсюда в милицию), а тем более не хватит, чтобы
преподнести, скажем, актрисе НН бриллиантовое колье.
______________
* Нессельроде Карл Васильевич - граф, канцлер Российской империи с 1845
г. Активный крепостник.
- Ворчишь? Ну-ну.
- Да она и не возьмет. У нее муж, дети, она сосисками в буфете
перекусывает. И это хорошо. Свинства, по крайней мере, нет. Так что перстня
не будет. А будет в этой вашей последней коробке непременно какая-нибудь
гадость... Ну, я - другое дело. Но Щука?! Щука такого пустяка разгадать не
может?! Ходят вокруг да около. А кто-то действует... Пустословие и
безделье... Погубленное время.
- Напрасно ты так, - сказал Хилинский, - я думаю, он не тратит времени
зря. Беда в том, что пока тому или тем удается опережать его.
- Ладно, - мрачно сказал я, - ну, а где ваша кочерыжка?
- Кочерыжку передаст тебе Щука, - неожиданно сухо сказал он, - и нет в
том моей вины, что весь день со мной таскались люди, что до этой минуты нам
не удалось побыть одним. Что ж, грызи кочан теперь: Герард твой приказал
долго жить.
- Какой Герард?
- Ну, твой. Пахольчик из табачного.
- Как?
- Нашли в закрытом киоске. Отравился.
- Третий? Одинаковая смерть. Чем отравился?
- Каким-то очень сильным растительным ядом.
- Каким?
- При экспертизе... Словом, некоторые чисто растительные яды нельзя
распознать. И противоядия от них нет.
- Еще что?
- Дворник ваш, Кухарчик, в тот самый день...
- Что?
- Ему проломили череп каким-то тупым орудием. Сделали операцию. В
сознание не приходит. Врачи не обещают, что будет жить... Ну, чем ты будешь
заниматься?
- Я тебе уже говорил. А ты?
- Пойду с органистом и Лыгановским на рыбную ловлю. Он хочет ехать
завтра вечером обратно. Что-то загрустил.
Хилинский поднялся.
- Вот так, брат. Все более сложно, чем мы думали.
- Я вот думал...
- Прекрасное занятие. Постарайся не бросать его до самой смерти.
И ушел.
А я снова направился в свою комнату, к своему столу, раскрыл блокнот и
дописал:
24. Смерть Герарда Пахольчика. (Кому он мешал, этот чудак со своей
киоскерной философией? Разве что был свидетелем чего-то? Чего?)
25. Возможно, повреждения черепа у Кухарчика смертельные. (Кто? За
что?)
На этом блокнот с результатами моего разгрома можно было захлопнуть с
треском.
Разгрома? Ну нет. Слишком жирно будет! Слишком это подлая штука -
безнаказанность! Слишком тугой клубок сплелся из всего этого: седой старины
и недавней (для меня) войны с ее "санитарными акциями" над сотнями безвинно
убитых, с давними убийствами и убийствами совсем недавними, со смертью
женщины, которая хотя и обманывала, но все же по-своему любила меня.
И со смертью моего друга. Лучшего из наилучших друзей на земле,
большого и в поступках, и в страданиях человека.
Я должен не только сделать все возможное, чтобы помочь распутать клубок
гнилых, гноем и кровью, обманом и изменой залитых деяний.
Я обязан, если это только возможно, отомстить. Да, отомстить, хотя
никогда не был мстительным. Отомстить не только полной мерой, но и стократ.
Чтобы он или она содрогнулись от ужаса, прежде чем снизойдет на них
последняя Неизвестность, последнее Ничто.
Потому что то, что произошло и происходит, - это уж слишком.
Мы еще поборемся. Мы еще схватимся.
Мы еще попрыгаем, как одна из двух лягушек, которые попали в кувшин с
молоком. Одна сложила лапки - все равно конец - и пошла ко дну.
Но вторая была - смешно сказать - более мужественной, чем некоторые
люди. Потому что она боролась даже в безнадежности. И сбила лапками островок
из масла, маленький плацдарм жизни.
�ГЛАВА VI�
"Где их следы, где твои следы?
Кто их найдет, кто найдет тебя?"
Тихое, слегка заспанное, все в сером свете вставало над Ольшанкой утро.
Трава была в росе - словно кто густо сыпанул студеной дробью. Я, как в
детстве, нарочно шаркал ногами, чтобы за мной тянулся непрерывный
темно-зеленый след. Хотя бы он сохранился одну минутку, пока не взойдет
солнце. А оно должно было вот-вот взойти и своим ласковым и теплым, еще не
жгучим, как в июле, дыханием за несколько мгновений подобрать росу, словно
стереть недолговечный мой след с лица земли.
А ведь действительно, что от меня останется через несколько лет?
Статьи, которые мало кто будет читать? Пара книг, которые помусолят в руках
немного дольше? Круговорот вещества в природе? Ну, разве что. Однако никто
не узнает меня ни в травинке, на сглаженном холмике, ни в багровой ладошке
кленового листа, падающего на склон горы.
Но долго думать об этом не хотелось. Снова приходили ночи при молодой
луне, которая взрослела и толстела и вот-вот должна была превратиться в
полную луну, чтобы щедро отдать земле весь свой свет. Солнце отдавало земле
благотворную ласку. Утром будил это солнце жаворонок, вечером усыплял
соловей.
Все ученые - дуралеи, а зоологи, тем паче орнитологи - вообще вислоухие
олухи, потому что они (орнитологи) относят соловьев к отряду воробьиных
(правда, подотряда певчих), куда входят, по их милости, и вороны, сороки,
сорокопуты и другие подобные субъекты. Довольно странно! Я никогда не сажал
бы в клетку соловья, а что касается вороны - то и подавно.
...Вот так рассуждая, и шел я под этим небом, которое все больше
голубело, обещая погожий теплый день.
Было еще так рано, что по дороге от плебании до Белой Горы я не
встретил ни одной живой души. Никто еще даже не копался во дворах, никто не
отдернул занавеску, провожая меня любопытным взглядом.
Я думал, что понадобится подниматься на городище, чтобы разбудить
Сташку, однако, подойдя к подножию поросшей травой махины, - к своему
удивлению, - увидел, что она уже там. Сидит на каком-то бревне, неудобно
вытянув длинные ноги. В легком пестром платье, в тонкой кофточке, накинутой
на плечи. Ожидает.
Глаза слегка запали, видимо, от усталости, губы слегка улыбаются.
Никогда еще не была она мне столь дорогой, как в этот момент, никогда не
была такой желанной.
- Доброе утро! Как твои?
- Дрыхнут еще все. А у тебя?
- Десятый сон дохрапывает Мультан. И Вечерка с ним. Нет, надо мотать
отсюда. И в сторожку добираются.
- Так ведь все равно завтра уедешь.
- Эт-то я еще погляжу. Как некоторые будут себя вести.
- А Вечерка?
- Вечерку отошью. Это же вчера сидят, а тут жена Вечерки приплелась.
"Ну, выпили. Хряпнули", - говорит дед. "Слишком частое твое хряпанье, -
говорит жена Вечерки, - как бы не вылезло боком". Тогда Вечерка рукой
махнул: "Слушай ты рапуху* эту, мало ли что она верещит".
______________
* Рапуха - полевая жаба, в переносном смысле - въедливое существо
(бел.).
- Ну, а вы что на это?
- А я сижу и думаю: "Вот это действительно мужское отношение к женщине.
Не кто-нибудь, а пан и властелин".
- Д-да, мужики здесь серьезные. Чудо-богатыри.
Мы спустились на дно моего раскопа в третьей башне. Шесть плоскостей,
шесть углов. Потолок - он же пол второго яруса - частично обвалился, как и
часть внутренней облицовки стен.
Башни шестиугольные,
Снаружи - шестигранные.
Я промурлыкал это себе под нос, но она услышала, покосилась на меня.
- "Поэзия есть бог в святых мечтах земли", - процитировала она кого-то.
- Это еще что, - в тон ей сказал я. - Тут иногда люди с Олимпа, мэтры с
устойчивой репутацией, такие бессмертные шедевры выдают, что начинающим
поэтам и не снилось. К примеру, один тип, из-под Воложина, что ли...
Он взрастил рекордный лен
И за это награжден.
- Не верите? Сам читал. А размер вирша такой, будто рекордный лен
взрастить, все равно что "Калинку" отбацать. Дают братцы.
- Ну, довольно зубоскалить. Начнем.
Под башни был засыпан, по всему было видать, нетолстым слоем щебенки,
обвалившейся штукатурки и разного мусора, и посреди всего этого стояли на
попа (одна немного наискосок) три гранитные плиты. Одна, очевидно, с
облицовки, две - с потолка.
- Мы их не сдвинем, - сказала Сташка.
Действительно, плиты были приблизительно полтора метра на метр с
четвертью каждая. И толщиной сантиметров шестьдесят.
- Не сдвинем, - повторила она. - Сбегать за ребятами, что ли?
- А приоритет? - неудачно попытался пошутить я. - Нет, мы просто их не
будем трогать. Выгребем мусор, даже просто отгребем его к стенам, потому что
люк в подземелье, видимо, где-то посредине. Если плиты на нем - ничего не
поделаешь, придется звать помощников. А нет - они нам не помешают, эти
плиты.
Часа полтора мы упорно трудились. Она насыпала лопатой в дырявые ведра
мусор и щебенку, а я относил все это и высыпал под стены. Потом мне
показалось, что лопата движется очень медленно. Тогда я взял вторую лопату и
начал отбрасывать к стенам из центра площадки штукатурку, куски кирпичин и
все такое.
Но вот в конце второго часа моя лопата заскрежетала обо что-то. Раз, и
второй, и третий.
Люк. Ну, не открытый люк. Просто квадратное отверстие, и на нем, почти
полностью его прикрывая, толстая плита из гладкого, с виду чуть ли не
отшлифованного песчаника. На плите крест с четырьмя закругленными лопастями,
а в лопастях по непонятной букве (потому что забиты землей) На пересечении
лопастей старинный шестиконечный Ярилов крест под "крышей", как на древнем
кладбище, на староверских "голубцах".
Тут бы лом, но куда там бежать за ним. От нетерпения у нас перехватило
дыхание: мы дышали коротко и сипло.
Просунули в щель лопаты. Нажали. Черенок Стасиной лопаты слегка
прогнулся.
Но тут я, налегая грудью на черенок моей, просунул руки в эту трещину и
опрокинул плиту на себя, назад, под широко расставленные ноги.
Открылось творило. Темное отверстие. Я зажег спичку и "стрельнул" ею
вниз (так она дольше не сгорает, нежели когда ее просто бросить). Сводов и
стен она не вырвала из тьмы, зато на миг осветила неширокие и очень крутые
ступени из красного кирпича.
- Ну вот, - сказал я, - теперь можно и за ребятами сходить.
- А приоритет? - передразнила меня она.
Я плюнул. Это правду говорят не только про Польшу, но и про наши
западные земли, что на все те земли весь отпущенный богом ум - комар принес.
Да и тот разум местные бабы расхватали. С этими не поспоришь. Я из
собственной жизненной практики знал это. Потому я достал свечу (две были еще
в кармане), снял куртку и ступил на первую ступеньку.
- Оставайтесь здесь.
- Это еще почему? - удивилась она.
- А вы про "эффект собачьей пещеры", что в Италии, слыхали?
- Какой пещеры?
- А там есть пещера-яма. Человек зайдет, ходит там - и ничего. А собака
или кролик подыхают через несколько минут.
- А почему?
- Из вулканической трещины выделяется углекислый газ. Сочится
понемножку. Ну, а поскольку он тяжелее воздуха, то остается внизу. Голова
человека выше этой зоны, а собачья - ниже.
- Сами говорите - выше. Мы ведь на четвереньках ходить не будем. И
потом, там вулкан...
А тут могли быть трупы. И никакой, даже минимальной, вентиляции. И слой
газа может быть выше. Тогда уже будут говорить про "эффект человеческой
пещеры в Белоруссии". Только говорить будут другие, не мы. А нам останется
слава первопроходцев. Посмертная.
Но она уже тоже стояла на ступеньках, нагибалась:
- Да нет, нормальный воздух. Затхлым не пахнет.
- От затхлого воздуха никто еще не умирал.
- Ну и что?
- А то, что углекислый газ затхлостью не пахнет... Если хотите знать,
он имеет единственный запах - запах смерти.
- По-моему, углекислый газ это не совсем то, что окись углерода. Он -
угольный ангидрид.
- Боже, до чего же вы ученая! CO или CO2 - вам это все равно...
Наверное. Потому что химик из меня такой же, как...
Я спускался, и она спускалась за мной. И я уже плюнул на все. Пусть
себе лезет, если ей так хочется, гадость такая. Я освещал только ступеньки
вначале себе, а потом ей, чтобы случайно не ткнулась носом в кирпич.
И все же на последних ступеньках она оступилась, и я, стоя на ровном
полу, едва успел ее подхватить.
Я страшно злился, что она лезет туда, куда не просят, хотя здесь было
более безопасно, чем в старинных шахтах по добыче кремня под Волковыском. А
она этот конец неолита на собственном животе весь исползала.
И все же я не мог удержаться:
- Все-таки пошли. Гонора у вас хоть пруд пруди. А на деле "кабы мы не
поднялись да не встали, так вы бы поганую землю носом копали".
- А это что за перлы изящной словесности?
- А это когда москвич куражится перед нижегородцами и насмехается над
ними, то те ему вот так ответствуют, огрызаются, Минина вспоминают.
- Ну, хорошо, хорошо, - по-видимому, смутилась она. - Светите... Минин.
Я поднял свечу и стал разглядывать помещение.
Это была абсолютно пустая камера не камера, склеп не склеп, подвал не
подвал. Подземелье? Помещение, чтобы в нем что-то хранить? Но тут было
пусто, как в студенческом кармане накануне стипендии (я, конечно, имею в
виду настоящего, стопроцентного студента).
Пол из огромных каменных плит. Стены и своды как бы слоеные: толстые
пласты дикого камня чередовались с более узкими полосами кирпича.
По форме - удлиненный эллипсоид вращения (в центре его мы и находились)
с усеченным нижним концом. Ну, а проще - яйцо, которое сварили, очистили,
срезали один конец и на этот срез поставили. Метров четырнадцать в
окружности, метра три с половиной в высоту.
Только в одном месте (метра два с чем-то над землей) какое-то темное
пятно размером с тетрадь. Отдушина? Просто так не разглядишь. Подставить бы
что-нибудь. А что? Спину Сташки? Не хватало еще, чтобы держала на спине мой
"чуть ли не центнер". Подставить ей свою спину? Еще лучше: "А я у этого
доктора на спине стояла да пританцовывала". Наконец, все это чепуха.
Подставлю, если понадобится.
И вот, выше, почти под сводом, еще одно пятно.
Ясно, делать тут нечего.
- Ну что же, - сказал я, - становитесь мне на спину, вот вам свеча.
Посмотрите, что там такое темнеет, и айда отсюда. Как видите, мы ошибались.
Точнее, ошибался я.
На ее лице было такое разочарование, что мне стало жаль ее.
- Может, простучать пол, стены?
- Напрасно. Сразу видно - строилось на века.
Я старался не смотреть в ее сторону. Впрочем, мог бы смотреть и не
смотреть, все уже было все равно.
И тут я услышал какой-то шорох вверху. Потом оттуда через люк поползла,
извиваясь, словно питон, толстая, серая, какая-то отвратительно-живая струя
щебня, штукатурки и песка.
- Оплывает! - крикнул я и бросился к лестнице, увлекая за собой Сташку.
В этот момент наверху что-то тупо и тяжело ухнуло, сотрясая стены и
загородив почти весь дневной свет, скупо сочившийся в люк.
Словно в ответ, струйка песка, битого кирпича, щебенки, каких-то щепок
мгновенно переросла в мощный поток, толстый, как дерево. Все это обрушилось
вниз, я был уже в этом потоке, но лестница превратилась в сплошную свалку, в
которой ноги не могли найти опоры. Мне засыпало лицо, в рукавах было полно
мусора.
Снова тяжело ухнуло. Остался лишь узенький, как лезвие ножа, лучик
света, и в этом лучике я увидел, как скользнуло по поверхности пылевого
потока стекло, довольно большой кусок. Хорошо, что не в голову.
А потом грохнуло что-то в стороне, и лучик исчез. Словно в ответ на это
сотрясение, от которого, казалось, содрогнулась вся земля, что-то опять, в
третий раз, бабахнуло над головой, дуновением воздуха погасив язычок огня.
- Что там? - крикнул голос снизу.
- Обвал! Плиты рухнули на лаз.
Я сполз вниз и стоял по колено в этой осыпи из разного паскудства.
- Где вы?
- Здесь я.
- Идите на голос... Я здесь... Ближе... Ближе... Ага.
Мы соприкоснулись. Потом моя рука нашла ее руку. Так мы и стояли.
- И ничего нельзя сделать?
- Вряд ли. Метр с четвертью на метр и шестьдесят сантиметров... Это...
это... если я не ошибаюсь... каждая плита ноль целых шесть десятых
кубометра. Удельного веса гранита я не помню. Но попытаемся представить себе
столб метр на метр и высотой... Нет, наверно-таки, я ошибусь. Но такого веса
мне не поднять. Слышите?
Сверху послышался шорох, легкое рокотание, шелест.
- А это что?
- А это на плиты сплывает песок, который мы так легкомысленно
отбрасывали "немного в сторону"... И надо же - никакого рычага! Можно было
бы попытаться.
- Так что мы будем делать? - спросила Стася тихим голосом.
- Погодите. Нужно зажечь свечу, чтобы оглядеться. Без огня совсем каюк.
Я похлопал себя по карманам и ощутил ледяной холод в позвоночнике.
- Ч-черт! Холера на мою голову!
- Что это вы?
- Спички остались наверху. В куртке.
- Та-ак.
- Да, веселая перспектива.
- И что делать?
- Сидеть. Ожидать. И думать.
- Над чем?
- Над тем, что каждая плита ноль целых шесть десятых кубометра. А если
точнее, то даже ноль целых шестьдесят девять сотых кубометра... Я вспомнил,
кубометр гранита весит от трех до семи тонн. В зависимости от плотности.
- Значит...
- Умножьте это на три. Так вот, если посчитать весьма приблизительно,
даже в лучшем случае этот завал, вся эта бандура весит шесть тонн. Мы не
сможем даже на толщину волоса сдвинуть плиты с места.
- Значит, нам могут помочь только снаружи?
- Да. И необходима техника. Им не обойтись без техники.
- Что ж, - сказала она, - будем смотреть правде в глаза: помощи извне
тоже не будет.
- Почему? - Я начал уже догадываться.
- Мы ушли, когда и ваши и мои спали. Никто нас не видел. Мы не
предупредили ни о чем ни детей, ни коллег, ни хозяев. Мало того, мы навели
на ложный, фальшивый след даже Хилинского с Лыгановским. Курганное
захоронение, неизвестно где, пятое, десятое. Нас можно искать в лесу, по
всему району, но только не здесь... И даже след на росе: "взойдет солнце -
росу высушит".
- И все же мне подозрителен этот обвал. Плиты стояли крепко. Я пытался
сдвинуть - ни одна не сдвинулась.
- Так что вы думаете?
- Думаю, что это очередная попытка избавиться, очередное покушение на
тех, кто много знает.
- Что ж, будем ждать... Вы говорили, без еды...
- Я говорил, сколько дней может прожить человек без еды, но я не
говорил, сколько он может прожить без воды. А воды у нас нет ни капли. Даже
капели со сводов.
А про себя подумал: "Дня три".
Руки мои все еще искали в карманах то, чего там не было. Носовой
платок, ножик, сигареты, шариковая ручка. И вдруг в самом уголочке правого
кармана, почти наполовину под подкладкой, пальцы нащупали что-то тонкое и
хрупкое, даже на ощупь похожее на спичку. Потянул, еще боясь верить.
- Сташка, спичка!
- Ну и что? Спичка без коробки.
- Глупенькая, если только...
Я лихорадочно думал, сжимая в пальцах драгоценность, равной которой не
было.
Можно, можно было добыть огонь и без коробка. Есть несколько способов.
Ну, во-первых, согнуть ногу так, чтобы брюки плотно обтянули бедро, и
чиркнуть спичкой по бедру. Можно, но я не знал, из чистой шерсти мои брюки
(тогда огонь!) или с примесью какой-нибудь синтетической дряни.
Шершавая стена? Но достаточно ли она мелкозернистая и сухая?
- Ага... Сташка, где твоя рука? На, держи. И упаси бог уронить.
- Что ты хочешь делать?
- Погоди.
Я вспомнил, как блеснул в последнем лучике света кусок стекла,
скользнувшего по струе мусора, сыпавшегося в люк.
- Кусок стекла!
Я подполз к обвалу, в куче мусора у лестницы (благодарение богу еще,
что я не отошел далеко) и начал руками, сантиметр за сантиметром, ощупывать
мусор, даже слегка перекапывать его.
Это была почти безнадежная затея. Стекло могло отлететь далеко в
сторону, могло оказаться глубоко засыпанным. Но я перебирал и щупал мусор в
полном мраке так упорно, словно это была последняя наша надежда. Хотя что
нам могло дать это стекло? Возможность одной-единственной неудачной попытки?
А что мог дать нам свет, даже если мы и добудем его?
Но я шарил, щупал, чуть не нюхал эти отбросы. И вот... вот... не оно...
Вот еще... Оно... оно, черт меня и всех побери!
- Сташка!
- Я здесь... Ползи... Сюда... Что ты нашел?
Я приложил стекло к щеке - слава богу, сухое. Ни грана влаги на нем.
Видимо, лежало в песке.
- Дай спичку.
Я осторожно водил спичкой по волосам, к счастью, также сухим. Сухие
волосы лучше самой лучшей промокашки.
- Держи свечу... Так. Здесь держи. И упаси тебя бог даже дышать.
Прижав пальцем головку спички, я сильно и быстро чиркнул ею по стеклу.
Раз... Второй... Третий...
Зашипело...
И вот на кончике спички расцвел чудесный, синий внизу, оранжевый выше и
желтый на конце волшебно-живой цветок.
Вспыхнул фитиль свечи.
Новыми глазами смотрел я на нашу тюрьму, на перемежающиеся полосы камня
и кирпича, на конус мусора, засыпавшего лестницу. Я воткнул в этот мусор
свечу, а две другие положил рядом.
- Ненадолго хватит, - сказал я. - Будем зажигать одну от другой.
- Мы не знаем, - сказала она, - можем ли мы позволить себе даже такую
роскошь? Хватит ли у нас в этой ловушке воздуха? А вы еще закурили, Антон.
- Потому и закурил. Видите, дымок тянется к тому темному пятну и к
тому, что выше. Здесь есть тяга, есть воздух. По крайней мере, мы не
задохнемся. И я попытаюсь сделать трут. Пускай себе не из древесной губы, а
из собственных брюк.
Я глубоко затянулся и выдохнул очередную струю дыма. И снова ее
потянуло к темному пятну на стене.
Отдушина. И тяга. Сильная тяга.
- И все же, в чем дело, что все так неожиданно обрушилось? - задумчиво
сказала Стася.
- И тут не докопаешься. Может, та подточенная стена рухнула и удар
отдался сюда... А может, и скорее всего это так, кто-то следил за нами.
Кто-то постарался нас тут замуровать. А вместе с нами и свое прошлое.
- Так ведь здесь ничего нет. Какое прошлое? Где?
Я как раз заканчивал обстукивать камнем пол.
- Так. Никакого другого подземелья под этим нет. Значит, мы не там
искали. Значит, надо искать в другом месте.
- Искать? Вы ведь собирались бросить?
- Дудки, - сказал я. - Теперь уже дудки. Найду.
- Вы вначале выберитесь отсюда.
- Выйду. Не знаю как, но выберусь. Сквозь стену пройду, а буду там. В
землю зароются - из-под земли достану. Вместе с их прошлым, настоящим и
будущим, которого у них - я уж постараюсь - не будет.
Эти слова словно что-то сдвинули во мне. Говорил я их более
подсознательно, чем думая над их смыслом.
Почему я был уверен, что нас завалили? Во-первых, сотрясение от
какого-то там обвала не могло свалить плиты. Нужно было приложить к ним еще
и какое-то механическое усилие, чтобы они обвалились. Во-вторых, мусор мы
отбрасывали все же довольно далеко. Не мог он так легко начать сыпаться
вначале между плитами, а потом на них, хороня нас. Ясно, что тут было. Тут
было что-то наподобие рассуждения в древнем восточном гимне, приведенном,
кажется, в книге "Душа одного народа" некоего английского офицера Филдинга.
Книга рассказывала про Бирму, и было ей около ста лет. Как там было сказано?
Где их следы, где твои следы?
Кто их найдет, кто найдет тебя?
Да, кажется, я читал это там. Сто против одного, что этот "обвальщик" и
"настоящего" Филдинга не читал. Но рассуждать он должен был приблизительно
так.
А что это так взволновало меня в собственных словах: "Я достану их,
даже если в землю зароются. Вместе с прошлым и настоящим"?
События, слова, факты, слухи - все они совсем недавно были горстью
разноцветных стеклышек, а теперь, словно помещенные в какой-то волшебный
калейдоскоп, который стал медленно вращаться, постепенно начали складываться
в геометрический рисунок, имеющий и симметрию, и даже кое-какой порядок.
Я опять прошелся по нашей тюрьме: следов, кроме наших, не было. К
сожалению, спускаясь, я не посмотрел, были ли они на ступеньках. Если были,
значит, те, немного спустившись по лестнице, самого подземелья не
рассматривали и могли не заметить отверстий, через которые приходил к нам
воздух.
По их расчету, мы не должны были умереть от жажды на какой-то там
третий или четвертый день. Мы должны были умереть от удушья через каких-то
там несколько часов.
Они не хотели рисковать. Несколько дней - это слишком много. Вот
катастрофа, пара часов и удушье - это был верняк.
Холодная ярость охватила меня. Погибать из-за какой-то сволоты? Ну,
н-не-ет! А калейдоскоп работал и работал, и стеклышки с тихим щелканьем
занимали свои места.
Все. Во всяком случае многие. Вплоть до слов про "страшные яйца",
которые говорили над пьяным Вечеркой те, неизвестные. Мои, и Сташки, и всех
нас враги. Стоило лишь взглянуть на яйцеобразную форму подземелья. А одно ли
оно здесь такое?
Так, калейдоскоп складывался в рисунок. Но кто, кто из живых узнает,
что он сложился в моей голове во что-то логическое?
Никто.
Я взял свечу и пошел к отдушине. Язычок огня все больше оттягивало в ту
сторону. Значит, откуда-то поступал воздух. Может, плиты не так уж плотно
завалили люк.
Отставив руку со свечой, я начал ощупывать кладку. Да, в ней
действительно была отдушина с ржавой крестообразной решеткой. Куда она вела?
А черт его знает! Может быть, в другой такой же подвал. "Допустим, ты пробил
головою стену. И что же? Ты оказался в соседней камере..."
- Возьми, Сташка, свечу, - сказал я. - Держи в стороне от тяги.
Освободив правую руку, я подпрыгнул, ухватился за решетку и начал
раскачивать ее (или, может, качаться на ней?).
Все это было пустым делом. Даже выломай я проржавевшее железо, кто бы
пролез в дырку размером двадцать на двадцать пять сантиметров? Но я был
неспособен рассуждать логично ни о чем, кроме моего "калейдоскопа". И я
качался и качался, то подтягиваясь к решетке на руках, то отстраняясь, с
силой распрямляя согнутые ноги, которыми упирался в стену.
Показалось, что ли, но в какой-то момент мне сдалось, что решетка и
нижний камень кладки в самом деле слегка "ходят", как шаткий зуб.
Я спрыгнул немного отдохнуть и увидел, что от вертикальной перекладины
решетки вьется, бежит среди камней узкая трещинка.
И тут я понял, что поступил правильно, начав эти "экзамены на
обезьяну". Так она и вмуровывалась в свое время, решетка, в каменную кладку:
минимум два камня были двойные или с большими выемками. Два конца "креста"
входили в выемки, а два других просто всовывались в проемы, а потом эти
проемы заполнялись крепкой цемянкой. Цемянка не выдержала.
Я снова повис на решетке. Длилось это целое столетие. Во всяком случае
первая свеча уже догорела, и Сташка зажгла вторую.
Первый камень выпал снизу... Второй, зараза, держался, словно у него
были корни. Тысячи корней. Но наконец хлопнулся мне под ноги и он.
Камень на камень.
- Становитесь, Сташка. Я вас подниму и, простите, протолкну, ногами
вперед.
В первый и последний раз я держал ее на руках. В стороне горела
воткнутая в мусор предпоследняя наша свеча. Чувствовал сквозь легкое платье
теплоту и округлость ее ног. Потом, когда они исчезли в бреши, твердую
округлость груди.
А у глаз моих, в полумраке были ее глаза, и прядка ее волос легко
щекотала мне висок.
- Стали?
- Кажется, утвердилась, - шепотом ответила она из-за стены.
Я пошел за огнем, потом двинулся к пролому. И вдруг услыхал
приглушенный крик. Оглянулся. Завал вверху за моей спиной угрожающе
прогибался. И тогда я бросился бегом, сунул свечу в ее руку.
- Отступите.
Должно быть, так прыгают сквозь огненный круг львы в цирке. Во всяком
случае пролом я почти пролетел, приземлился на четвереньки, и целое море
пламени охватило мою голову, рассыпавшись потом огненно-зелеными искрами.
- Живы?
- Жив. Руку, кажется, слегка подвернул.
Мы, как сговорившись, глянули назад в пролом и ужаснулись. Нижняя плита
держалась одной стороной. Едва держалась.
Достаточно было кинуть в нее камнем, - да что там, - даже просто,
казалось, кашлянуть или крикнуть, и все это обрушилось бы вниз, мозжа и давя
все живое. Путь к лестнице был отрезан. И даже если бы мы специально вызвали
эту лавину - неизвестно, не засыпала бы она тот пролом, через который мы
попали сюда. А куда попали? Мы обошли вокруг точно такое же подземелье,
такое же "страшное яйцо", только глухое и с сильно разрушенной лестницей. И
никакого выхода. И здесь была отдушина, только вдвое меньше и без решетки.
И, значит, расширить ее было нельзя никак.
И еще - слабая надежда - окошко вверху размером с ладонь. Это окошко не
было темным. Это было слабое пятно света, дневного света, который падал
откуда-то сверху и освещал даже какую-то достойную жалости былинку, росшую,
по-видимому, на дне какого-то колодца или просто ямы, куда и выходила
отдушина.
Обессилевшие, мы сели прямо на плиты и, честно говоря, пали духом
настолько, что опустили головы. Это было уже действительно все.
В самом деле, слабым утешением было то, что они, если они были, не
знали о существовании соседних камер, и потому мы не задохнулись и не были
уже мертвы, похоронены под обвалом.
Наша удача означала только более медленную смерть. И если мои кошмары
несли в себе хоть зерно правды - ну что ж, у того, что было похоронено здесь
разными людьми, теперь будет четыре стража.
- Ничего, ничего, Сташка, - сказал я. - Ну, перестань, перестань. Все
еще не так уж плохо. Мы придумаем что-нибудь, чтобы выбраться. Наконец, мы
сожжем на последней свече что-либо из одежды. Неужто не найдут, хотя бы по
струйке дыма? Да найдут. Конечно, найдут.
- Не утешайте меня, - тихо сказала она. - Здесь сотни дымов из печных
труб... Кто обращает на них внимание? Нет, надо смотреть правде в глаза. Это
- конец.
Плечи ее задрожали. Мне показалось, что она плачет, что вообще вся ее
маленькая фигура есть живое воплощение отчаяния.
- Не плачь, - сказал я и погладил ее по голове. По этим чудесным
волосам цвета красного дерева с золотом, которые никто в мире - а я первый -
не решился бы назвать рыжими. Да они и не были такими.
- Я не плачу, - неожиданно твердым и даже сухим, возможно, от
безнадежности, голосом сказала она. - Мне обидно другое.
- Что?
- Теперь уже можно сказать. Потому что все равно ничего не изменится.
- Что такое? - одними губами спросил я.
- Мне обидно, что ты не заметил... Не заметил, что я едва не с самого
начала люблю тебя...
- Перестань, - сказал я. - Это я, это я не хотел, чтобы ты заметила. Я
прожил больше тебя, так много, так бесстыдно много, что не имею права...
- Ты на все имел право... Я очень, очень люблю тебя. И мне все равно,
что ты этого прежде не знал - теперь знаешь. И мне все равно, что мы здесь и
не выйдем отсюда. Потому что это мы здесь. Ты и я. И других у нас, даже если
бы случилось непоправимое и я перестала бы любить тебя так, как любила, уже
не будет. Не думай. Я счастлива этим.
- И я счастлив, что помогло горе, что я услышал это. Потому что я
никогда бы не решился сказать тебе... Хотя я желал бы, чтобы ты жила
долго-долго, пока существует этот проклятый, этот благословенный мир. Больше
всего на свете хотел бы, чтобы ты жила. Я очень, очень люблю тебя. И мне
легко сейчас признаться в этом.
Она придвинулась и положила голову мне на колени.
- Я очень... я все отдала бы за тебя. Правда. Правда, потому что судьба
поставила нас перед невозможностью лгать. Ни словом.
- Я и так никогда не лгал бы тебе. Этим тяжелым волосам, морским
глазам, этим ресницам невозможно было бы лгать. Спасибо тебе за все. Будь
благословенна.
И так мы сидели в плену неразрывных, слитых в единое целое последних
объятий, ожидая последнего исхода.
А иного нам не было дано.
Прошли минуты, может, часы, а может, и столетия. Мы боялись
пошевелиться. Мы жили переполненной, высшей жизнью.
Потому что просто уже не жили.
�x x x�
...Я вскинул голову. Мне послышался крик. Детский? Или крик взрослого,
приглушенный каменной толщей?
Крик этот как будто блуждал: звучал то ближе, то дальше, то совсем
исчезал, то бился в каких-то запутанных лабиринтах. Бубнил, как из-под
земли, и вдруг долетел так ясно, словно был в нескольких метрах, под
открытым небом.
- Сташка, слышишь?
Наверное, она не слышала. То ли спала, то ли просто находилась в
прострации.
- Дяденька! - Словно комариный писк, звучал откуда-то голос.
И тут же как бы взрывался в паутине катакомб:
- Я сейчас!
И снова как сквозь вату:
- Сейчас...
Что это было? Галлюцинации? Так быстро? А наконец, чего и ожидать от
этого куска земли, испокон веков отравленного ненавистью, вероломством,
подлостью, смертельным ужасом и самой смертью?
Последняя свеча уже наполовину сгорела. Поблекло пятнышко света в
отверстии. Ничего. Теперь уже скоро. Серый, черный камень вокруг, камень
измены и убийства выпьет наши жизни.
Мне показалось, что мы здесь не одни, что чей-то взгляд остановился на
нас. Я приподнял голову, стараясь не пошевелиться, не потревожить девичьей
головы на моих коленях...
...Из зарешеченного окошка на меня смотрело человеческое лицо. Смотрело
пристальным и, может, мне это показалось, недобрым взглядом. Блестели глаза,
большие-большие в темных провалах глазниц. Цвет кожи от свечи, горевшей там,
за стеной, был пергаментно-желтый, мертвый. А на тонких, всегда таких
приятно-насмешливых губах была холодная, злорадно-издевательская,
безразлично-изучающая улыбка.
Ксендз Леонард.
Смотрел зловеще, как ворон потопа*, когда этот потоп начал спадать,
открывая глазам Ноя и его, ворона, трупы допотопных людей и зверей.
______________
* Библейский Ной, когда потоп начал спадать, выпустил из ковчега
вначале ворона, который не вернулся, обрадованный множеством трупов на
холмах.
Окликнуть его? Я не решился. Тяжелее всего была бы эта последняя
ошибка: увидеть, как улыбнется и уйдет, а с ним исчезнет последнее пятно
света, последняя надежда.
А оно и в самом деле улыбнулось и исчезло, это лицо. Угас свет.
Неожиданно очнулась Сташка.
- Здесь кто-то был? - спросила она диким, словно после беспамятного
сна, голосом. - Был здесь кто-нибудь или нет?
- Нет, - сказал я безжизненно. - Никого здесь не было. Сиди тихо.
Вздремни еще. Сыростью тянет от камней... Нет, я не ожидал такого. Мой
калейдоскоп рассыпался. В него попало лишнее стеклышко... Не мешало бы
поинтересоваться, откуда оно появилось и каким образом испортило рисунок?
- Ты что? Заговариваешься? Темное, непонятное говоришь. - В ее голосе
теперь слышалось нервное возбуждение и напряженность.
- Тихо. Тихо ты.
И тут я услышал вначале легкое царапанье, как будто мыши где-то
скреблись, затем скрежет. Потом этот скрежет усилился, переходя в
пронзительный визг.
В неописуемом удивлении - потому что до сего времени я слышал о
подобном только в сказках, а видел лишь в кино - я не спускал глаз с
вертикальной линии в стене. Она становилась все шире под этот визг, и я
таращил глаза на то, как эта линия стала щелью, которая ширилась и ширилась,
а затем превратилась в темную, широкую расщелину, в которую мог пройти
человек.
Отъезжал узкий прямоугольный кусок стены. Глазам открывались
полукруглые желоба. Видимо, такой желоб был и в стене, и она отходила,
откатывалась на каменных шарах (похожий механизм я видел когда-то в тайном
ходе одного из старинных замков крестоносцев. Как любят теперь говорить, -
взаимообогащение. Не по этому ли принципу действуют наши подшипники).
А вообще, не горожу ли я вздор? Так все путается в голове после этих
нескольких часов в подземелье.
Я осторожно взял Стасю под мышки и поднялся.
К нашим ногам уже катились из темноты щели две маленькие фигурки,
Стасика Мультана и Василько Шубайло.
- Дядя Антось! Вы тут?! Тетя Стася! И вы?
У меня сжало горло, в нем стоял твердый ком. Возможно, я закричал бы.
Но сдержался.
Потому что за мальчишками из мрака выступала фигура ксендза. Черная
тень и два пергаментных пятна: рука со свечой, вся облепленная маленькими
сталактитами воска, и лицо, на котором застыла все та же
вопросительно-безразличная усмешка, которая словно издевалась и испытывала.
- Вы живы? - шевельнулись губы.
Во мне как бы еще сильнее укрепилось подозрение.
- Благодарение пану богу, - сказал он. - Идемте.
...Мы вышли "коридором" в небольшую камеру. Ксендз толкнул стену, и она
с прежним рокотом и визгом покатилась на свое место.
Мы повернули за угол и очутились в длинном и низком коридоре-катакомбе.
- Здесь недалеко, - сказал Жихович, - и слава богу, что здесь есть ход.
- Слава богу, что они не знали о нем и о втором подземелье.
- О том, в котором вы были? О нем не знал и я, - сказал ксендз. И
добавил, помолчав: - Спасибо вот им. Они столько кричали о подземельях,
когда вы исчезли, что я пошел с ними, лишь бы отвязаться. Остальные ушли на
поиски какого-то неизвестного "городища" и "курганного могильника" с час
назад... Нехорошо, идя на встречу с возможной опасностью, направлять людей
на ложный след. Из небольшой лжи иногда рождается непоправимое. Как из
лжеучения - смерть духа, а из нарочитой фальши - смерть.
Он мог бы и сам являть пример воплощения фальши, если бы не горький
сарказм в тоне его слов.
- Достаточно уже смертей на этом несчастном уголке земли. Просто
какой-то Бермудский треугольник: Кладно - Ольшаны - Темный Бор. Гибнут
надежды, без следа исчезают люди, их мечты и надежды.
- А кто в этом виновен? - Я все еще не мог избавиться от
подозрительности.
- Не знаю. Наверное, предки и потомки, недавние и сегодняшние. И я
виновен. В том, что живу, когда все друзья... и подруги давно погибли.
Он шел по коридору, как живое привидение. Воистину так.
- Было бы ужасно, если бы погибли еще и вы. На пороге какого-то
открытия, - он многозначительно покосился на меня, - или на пороге
поражения, которое только и определяет, мужественный человек или нет.
Мне стало немного стыдно. Ведь если принимать во внимание его прошлое,
то он был выше подозрений.
- Послушайте, - сказал я, возможно слишком резко, не в силах забыть ту
усмешку в отверстии, - возможен ли стопроцентный христианин первых лет
христианства? В наши дни, с нашим прошлым? Не лги даже в мелочах, не
прелюбодействуй даже оком? Нет, вы, кажется, такой или хотите быть таким.
Объясните мне, как это?
- Да ну вас.
- А я не верю. Не верю, потому что у большинства людей двойное дно.
- Не слушайте его, - тихо промолвила Сташка, - просто у него был
стресс, и он никак не может очухаться.
- Двойное дно. Возможно, и тех замуровали, как в моем сне. Моему
калейдоскопу недостает лишь одного стеклышка.
- Какого?
- Что означали те слова из кошмара: "два стража неотпетые и один
некрещеный"? Кто они были, эти трое?
- Послушайте, - сказал ксендз, - у вас в самом деле нервная
неуравновешенность.
Мы вышли на свет. Зеленела трава. Низкое уже солнце бросало
апельсиновые отсветы на листву. Из-за ворот, с пыльной деревенской улицы,
долетал спокойный и мирный хорал вечернего стада: мычание коров,
жалостно-гнусоватое блеяние овец.
Я взял Сташку за руку, и тут меня затрясло. Так, что я боялся
произнести даже слово, чтобы оно не прорвалось рыданиями облегчения. Не за
себя, можете мне поверить.
- Ты не сожалеешь о сегодняшнем дне? - шепотом спросила она.
- Нет. Кто-то сказал: "Я не знал, как выглядит мой родной дом, пока не
вышел за его стены. Я не знал, что такое счастье, пока не прошел безднами
беды..." Я не сожалею о сегодняшнем дне.
И, однако, мне довелось под конец пожалеть о нем.
Возле дома навстречу мне бросился Мультан.
- Слава богу, живы. Слава богу, хоть вы живы. Потому что троих в один
день...
У меня сжалось сердце.
- Кто?
- Вечерка сегодня вытаскивал шнур возле Дубовой Чепы* (черт его знает,
чего он всегда его среди этих пней ставит) и вытащил...
______________
* Чепа - многолетнее подводное скопление затонувших стволов и коряг.
Место, где цепляются сети, переметы, веревки якорей (бел.).
- Лопотуха?
- Он. Милиция увезла уже. Наверное, упал в темноте с крутого обрыва.
Виском о пень или о мореный дуб - вон сколько их там торчит у берега. И
готов!
Я вспомнил достойного жалости, безобидного человека-страдальца, его
беззащитное "мальчик, не надо" и как он пытался напугать меня, чтобы не
шлялся у замка, не посягал на "его дом". Вспомнил свои подозрения и
представил последнее стеклышко из калейдоскопа: тело утопленника.
И тут я понял, что я - осел.
�ГЛАВА VII�
О жизненной необходимости
основательного изучения
старославянской грамматики и алфавита,
о без пяти минут докторах наук,
которые тоже бывают ослами,
и одной помощи, пришедшей непоправимо поздно
Мы сидели с Хилинским на берегу заводи, там, где впадала в нее
Ольшанка. Очень широкая в этом месте заводь исходила паром, над ней стояли
маленькие и редкие столбы тумана, чуть подсвеченные новорожденным солнцем.
Рыбачили. Вернее, удил один он, изредка подсекая то плотвичку, то
небольшого голавля. Уже десятка два рыбок плавали в его ведерке, временами
начиная беспричинно, как по команде, громко всплескивать.
- Все ясно, - сказал он, выслушав меня. - Ясно, что Лопотуха должен был
погибнуть после врачебного заключения Лыгановского. Кто-то испугался, что к
нему вернется психическое равновесие.
- Из тех, кто присутствовал тогда?
- Почему? Каждый из них мог рассказать об этом кому-либо из родных или
знакомых.
- Лыгановский таки уехал.
- Да. Он сказал: "Если каждое мое слово в этом чудесном и
высокоморальном крае будет приводить к таким результатам, то мне лучше
исчезнуть. И пусть они здесь живут согласно своим обычаям и нравам. Мне до
них теперь, что Кутузову до Англии".
- А что было Кутузову до Англии?
- Ну, когда мы слишком уж носились да цацкались с новой союзницей, так
он сказал "пфуй" и императору и такой политике, добавил что-то в смысле: "А
по мне так хоть сейчас же провались этот остров - я бы и не охнул".
- Д-да-а, а гуманностью тут фельдмаршал не отличился.
- И все же я никого из присутствовавших тогда не могу заподозрить, не
вижу также, кого связывало бы прошлое с этим несчастным.
- Мы еще очень мало знаем. И потому не можем предвидеть и предотвратить
поступки этого или этих. И ты прав: могли кому-то и рассказать.
- "Предотвратить". А тут из-за нашего незнания гибнут и гибнут люди. Вы
не погибли вчера только чудом.
- Думаешь, искусственный, подстроенный обвал?
- А то как же. Обвалился кусок стены там, где ломали. И тут же к
сотрясению добавилась сила, приложенная к плитам.
Подсек. На этот раз вытащил окунька.
- Брось, - неожиданно попросил он. - Не твое это дело. Это начинает
становиться очень опасным. В следующий раз все может закончиться не так
удачно. А тут еще твое нервное состояние. Всякий может сказать, что делом
занимался псих. Не будет доверия.
- И пускай не будет. - Во мне вдруг проснулся юмор висельника, чего я
от себя никак не ожидал. - Здесь столько умных, что обязательно нужен хотя
бы один ненормальный. Если не Лопотуха, то пускай уж буду я.
- Ну-ну. Сумасшедшие иногда должны высказывать парадоксы и еретические
суждения. Даже замахиваться на авторитеты. Особенно если прежде грешили
передовыми взглядами.
- Ну, конечно. Сверхъестественное презрение к ругани и восхвалениям...
И куда же это я попал? И куда могут завести человека передовые взгляды? А
ведь многие считают свои взгляды передовыми. А у кого совесть атрофирована -
те все себя передовыми считают. Изобретают газы, атом, дыбу, шовинизм,
исторические поступки, эшафоты. И учат этой морали, если знают, что на нее
махнули рукой... Открывают, открывают то, до чего никому нет дела. А вот
обыкновенное средство от зубной боли или от радикулита, когда у человека зад
болит... Человечество от этого воем воет, а им изобрести слабо. Они копаются
в глаголицах...
- Ну, ты даешь. Просто пуританский... - И вдруг уставился на меня. - Ты
что, морского змея увидел?
Он, видимо, даже испугался, увидев, что я застыл, уставившись в одну
точку, словно одеревенел.
Моя удочка успешно сплыла бы на середину заводи, если бы он не
перехватил ее.
- Ну вот. Ну вот и у тебя что-то попалось. Ты гляди, как повел
осторожно... А, черт! Да что, наконец, с тобой?
Но тут я начал трястись от смеха. Поначалу тихого, а потом совсем уже
нестерпимо безудержного.
- Да что с тобой, хлопче? Ты в самом деле свихнулся, что ли?
- Идиот! Идиот!
- Согласен, но почему?
- Я сказал... ой... про глаголицу...
- Не ты первый.
- И только тут мне стукнуло в голову... Мы искали под третьей башней.
- Правильно.  - третья буква, что в кириллице, что в глаголице.
- Да. И в глаголическом... ах-ха-ха!
- третья буква, что в кириллице, что в глаголице.
- Да. И в глаголическом... ах-ха-ха! 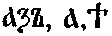 первая буква и имеет под
титлом значение один.
первая буква и имеет под
титлом значение один. 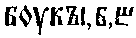 - имеет значение два, а
- имеет значение два, а 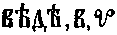 - имеет
значение три... Ой, держите меня! И нас чуть не засыпало и не убило под
третьей башней.
- Та-ак. Не вижу ничего смешного. Своеобразный юмор.
- Дело в том, что
- имеет
значение три... Ой, держите меня! И нас чуть не засыпало и не убило под
третьей башней.
- Та-ак. Не вижу ничего смешного. Своеобразный юмор.
- Дело в том, что  - действительно один, два и три. Так в
глаголице. Но в кириллице
- действительно один, два и три. Так в
глаголице. Но в кириллице 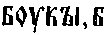 - не имеет числового значения. И никогда
не имела, как
- не имеет числового значения. И никогда
не имела, как  , как дервь (
, как дервь ( ),
как Ш, Щ, Ю и другие. Не имела.
- Как-как?
- А вот так. И значит
),
как Ш, Щ, Ю и другие. Не имела.
- Как-как?
- А вот так. И значит  стоп вниз, это означает 6, а не 8 стоп вниз.
Б и Ж не имели в древней Белоруссии числового значения.
стоп вниз, это означает 6, а не 8 стоп вниз.
Б и Ж не имели в древней Белоруссии числового значения.  - первая
башня,
- первая
башня,  никакая, понимаешь, никакая.
никакая, понимаешь, никакая.  - это вторая башня от угловой.
Значит, ошиблись не только мы, но те, кто хотел нас засыпать... Они ничего
не знали, они только следили за нами. А все, что мы...
Я изнемог от смеха, совершенно обессилел:
- Господи! Олух! Олух! Осел ременные уши.
- Ничего, осел на четырех ногах и то спотыкается.
- Ну, хватит. Я больше не позволю этому ослу спотыкаться. Мулом мне
стать, если это будет не так.
С этого момента я твердо решил, что никто, ничто и никогда в ослы меня
не запишет. История когда-нибудь докажет, так это или не так.
Пока мы дошли до места, где нам нужно было расходиться, я поведал
Хилинскому все свои соображения по этому делу. Пускай передает дальше кому
хочет. Я больше не желал рисковать. Мало ли что могло случиться со мной в
этом идиотском уголке?
Он слушал внимательно, а потом, ничего не комментируя, произнес
каким-то безразличным голосом:
- Похоже на то. - И после паузы добавил: - И еще тебе пища для
размышлений: "БТ" никогда, с самого основания ларька, киоскеру не отпускали.
Что мне было до "БТ" и до этого бедняги Пахольчика? Меня удивило
другое.
- Так, значит, поиски идут? Их не оставили?
- А-а, - отмахнулся он, - я ничего не знаю. Щука как-то обмолвился.
...Через день наше тихое пристанище превратилось в столпотворение
вавилонское. Сновали между Ольшанами и Ольшанкой разные машины и разные
люди. Приезжали даже из Кладненского и столичного музеев.
Меня это не касалось. Я сделал свое и, на этот раз, надеялся, что без
ошибки. Я просто делал то же, что и прежде. Вместе с хлопцами, вместе с
археологами (где прибыль, там помощников гибель) выносил мусор и щебень. На
этот раз из второй башни. И все эти дни я, словно предчувствуя недоброе,
пребывал в самом дрянном настроении.
Приходили и уходили местные жители. Иногда на холме люди собирались
даже в маленькие группки, где оживленные, а где и мрачные.
- Ну что, наклевывается что-нибудь? - спросил Ничипор Ольшанский.
Он стоял поодаль вместе с Вечеркой, Высоцким и Гончаренком.
И хотя, отгребя новую порцию разной трухи, на глубине шести стоп от
"материка" мы действительно только что нашли изображенный на камне контур
корабля, я ответил уклончиво:
- А черт его знает. Тут такая головоломка, что нельзя быть уверенному
ни в чем... Возможно... что-то найдется, а скорее всего - нет.
Я не хотел рассыпать почти завершенного узора в калейдоскопе.
До вечера мы расчистили почти всю площадку. Я уже приблизительно видел,
где пол сделай из меньших плит. Там можно было предположить существование
замурованного лаза. Поэтому я специально не позволил ребятам делать раскопку
до конца.
- На сегодня достаточно. Завтра с утра займемся снова.
Они ворчали: азарт есть азарт.
- Ничего, ничего. Оставьте немного приятного ожидания и на завтра.
- Приятного, - с порядочной долей издевки сказала Сташка. - Ничего там
приятного не будет.
Я помрачнел:
- Если я даже прав, то один день ничего уже не даст и ничего не
изменит. Даже если догадки правильные. Потому что люди - мы в этом случае -
опоздали с помощью. На добрых три с половиной столетия.
�ГЛАВА VIII�
Два призрака в лощине нечисти
и дама с черным монахом,
или паршивый белорусский реализм
...Мы умылись в реке, и я пошел проводить Сташку и ее команду до
лагеря. Там уже весело плясало пламя костра и шипел котел с супом, судя по
запаху, куриным, а возле него колдовала худенькая Валя Волот. Все расселись
вокруг костра.
- Что это вы так поздно? - спросила Валя.
- Свинья полудня не знает, - ответил Седун. - Да и не только мы
виноваты. Петух ведь еще не сварился.
Я чувствовал, что Генка снова что-то готовит.
- А все она, - сказал Генка, кивая в сторону девушки. - Не надо было ей
смотреть, как петуха резали. У нее глаз живит.
И вздохнул с фальшивой печалью:
- Так долго мучился петух.
И тут Валя удивила меня. Видимо, Генкины глупости даже у нее в горле
сидели.
- Э-эх, - воскликнула она, - не человек, а засуха. Да еще такая засуха,
что и сорняки в поле сохнут.
- Сам он сорняк, - сказала вдруг Тереза.
- А моя ж ты дорогая, а моя ж ты лапочка брильянтовая. А я ведь на тебе
жениться хотел.
- На которой по счету? - спросила Тереза. - Женись, только не на мне.
- Женись, чтоб дурни не перевелись, - добавила Валя.
Генка притих, понимая, что уже все хотят прижать ему хвост. После еды
он даже вежливо сказал "спасибо", но Волот и после этого осталась
непреклонной.
- Спасибо за обед, что поел дармоед.
- Милосер-рдия! - взмолился Генка.
Девчатам и самим уже не хотелось добивать "дармоеда". На компанию
опустился тихий ангел.
Я не знаю ничего лучше костра. Он пленяет всегда. Но особенно в таком
вот мире, залитом оливково-золотистым светом полной луны. Повсюду мягкая
однотонность, повсюду что-то такое, что влечет неизвестно куда. К в этой
слегка даже серебристой лунной мгле - теплый и живой багряный мазок.
Художники понимают это. Хорошие художники.
- Мне пора, - со вздохом сказал я и поднялся.
- Пожалуй, я провожу вас до края городища.
Прохлада ночного воздуха на лице. Особенно ласкового после жара костра.
Мы шли в этой мгле. Костер отдалялся и превратился уже в пятнышко, в живую
искру. Слегка прогнутой чашей, оливково-серебристой под луной, перед нами
лежало городище, обособленное от остального мира тенью от валов.
- Лунный кратер.
- Станислава, ты не передумала?
- О чем?
- Не раскаиваешься?
- В чем?
- В том, что сказала вчера.
- Нет, - тихо сказала она. - И думаю, что не буду раскаиваться. До
самого конца.
- И я. До самого конца. Все равно, скоро он наступит или нет. Только я
не знаю, чем заслужил такое от бога.
- А этого ничем не заслуживают.
- Ни внешностью, ни молодостью, ни поступками, ни даже великими делами?
- Иногда. Если такое уже и без того возникло. А оно приходит просто
так.
Я взял ее руки в свои. Потом в моих пальцах очутились ее локотки, потом
плечи.
Я прижал ее к груди, и так мы стояли, слегка покачиваясь, будто плыли в
нереальном лунном зареве.
Потом, спустя неисчислимые годы, я отпустил ее, хотя этот мир луны был
свидетелем того, как мне не хотелось этого делать.
- Прощай, - сказал я. - До завтра.
- До завтра.
- Что бы ни случилось?
- Что бы ни случилось с нами в жизни - всегда до завтра.
- Боюсь, - сказал я. - А вдруг что-нибудь непоправимое?
- Все равно - до завтра. Нет ничего такого, чтобы отнять у нас вечное
"завтра".
Ноги сами несли меня по склону. Я способен был взбрыкивать, как
жеребенок после зимней конюшни. Все нутро словно захлебывалось, до краев
переполненное радостью.
Была, впрочем, в этой радости одна холодная и рассудительная жилка
уверенности. Уверенности и знания, которые росли бы и росли, дай я им волю.
Однако я им этой воли не давал, сверх меры переполненный только что
происшедшим и новорожденным чувством безмерного ликования.
И я не давал воли внезапному озарению, которое пришло и не отпускало
меня, став уверенностью и знанием. В этом была моя ошибка.
Но я просто не мог, чтобы в моем новом ощущении единства со всем этим
безграничным, добрым и мудрым миром жили подозрения, ненависть и зло.
Я вступил в небольшую лощину, лучше даже сказать, широкое русло
высохшего ручья. Слева и справа были довольно крутые косогоры, тропинка
вилась по дну и выходила в неширокий проем, за которым, не мигая, висела
большая неподвижная звезда.
Туманно и таинственно стояли в котловине в каком-то никому не ведомом
порядке большие и меньшие валуны. Это было место, в котором старая народная
фантазия охотно поместила бы площадку для совещаний разной вредной языческой
нечисти. Она вымирает, но все равно в такие вот лунные ночи, когда вокруг
светло и только здесь царит полумрак, сюда слетаются на ночное судилище
Водяницы*, Болотные Женщины**, феи-Мятлушки***, Вогники**** с болот,
Карчи*****, Лесовики******, Хохолы******* и Хохлики******** и другие
полузабытые кумиры, божки и боги. Вспоминают, плачут по былому, творят свою
ворожбу, предсказания, суд.
______________
* Водяницы - туманные женщины, рожденные водой и летящие над ней.
** Болотные Женщины - духи болот и вересковых пустошей, красивые жуткой
красотой, но крайне изможденные, пугающие криками одиноких ночных прохожих.
Если вопль особенно ужасен - человек, услыхавший его, умрет.
*** Феи-Мятлушки - маленькие полупрозрачные женщины с крыльями бабочки.
Любят людей, но, полюбив особенно сильно, могут отнять у них душу.
**** Вогники - духи блуждающих болотных огней.
***** Карчи - духи выворотней и бурелома.
****** Лесовики - духи леса. Не мохнатые и, в общем, добрые, хотя и
озорные лешие (лесуны), огромные, иной раз выше леса головой, существа. Они
безразличны к человеку и говорят, не обращая на него внимания, как человек
на какого-нибудь мышонка. Но ведь тот, слыша громовой человеческий голос,
обмирает от страха.
******* Хохолы - нечто неожиданное, что, возникнув в глазах на
привычном, "своем" месте, заставляет человека до глубины души содрогнуться
(вообще-то "хохол" - обмотанный соломой на зиму вместе с ветвями ствол
дерева. Идешь утром - яблоня, идешь в сумерки - и вдруг, как удар по сердцу,
возникает что-то бесформенное, жуткое).
******** Хохлики - домовые. Они духи не только дома, но и двора,
хозяйственных построек, сада. В общем, добры, но своенравны и озорны.
Дыхание трав увядающих тает,
Сочится туман над стальною водой.
В низине, где замок почиет седой,
Последняя фея сейчас умирает.
Эта лощина - последний уголок их когда-то безграничного царства. Эти
еле видные, тускло мерцающие камни - их поверженные троны. Троны в лощине, в
которой густо настоялась их тревога, бездомность и обреченность. Их
последняя безнадежность в мертвой пустоте бездуховности. И единственное
живое - живое ли? - существо в этом мире заброшенности и хмурой Печаля.
Нет, я не был здесь единственным живым существом. Передо мной как раз
на том месте, где тропинка ныряла в узкую расселину, чтобы метров через
десять вырваться на простор, возвышалась очень высокая тень человека.
Эта тень подняла руку и медленно опустила ее. Все это творилось в
полном молчании, которое обещало очень недоброе.
Я оглянулся - еще одна тень блокировала второй выход, тот, через
который я забрел в эту ловушку.
А я ведь все уже понял, я знал и мог предвидеть это. Но я, ослепленный
своим счастьем, смирил, заглушил, удушил свои предчувствия, не дал им воли.
И теперь расплачивался.
- Вы кто? - прикидываясь вполне безмятежным, спросил я.
Он молчал. И вдруг на темном пятне лица возникла тусклая белая подкова
- неизвестный улыбался.
- Впрочем, можете и молчать. Я знаю и так.
Их позы красноречивее всех слов говорили о том, что этому моему знанию
я и обязан этой ночной встречей и что она не может окончиться для меня
добром. Потому что моего молчания о том, что я знал, нельзя было купить, но
его можно было добыть, повстречав вот так на узкой стежке, перекрыв все
пути. Они и повстречали. И это была не первая их попытка добыть молчание
такой ценой.
- Здорово, Гончаренок, - сказал я, покосившись на того, что подходил
сзади. - И ты здорово живешь, Высоцкий. Что, покой очертенел любителю "тихой
жизни"?
- Ну, здорово, - это процедил наконец первые слова Высоцкий. - Доброй
ночи, Космич.
- Вряд ли она будет добрая.
- И здесь ты не ошибаешься, - с ленивым спокойствием сказал он.
- Напрасно вы задумали, хлопцы. Напрасно начали. Мое молчание уже
ничего не стоит. Я нарушил его. И если со мной что-то случится - те люди
сделают свои выводы. И на этот раз они колебаться себе не позволят. Медлить
не будут.
- А нам и не надо. Это не купля молчания, - отозвался Гончаренок. - И
даже не месть. Просто итоги подбиваем. Ты свое дело сделал, привел нас до
тобой же открытого тайника. А уж вскрыть его - тут нам целиком хватит твоего
молчания до утра. Это для нас оно будет - до утра. Для тебя оно будет - на
неопределенное время. Даже если рассчитывать на трубу архангела.
- Для вас она тоже затрубит, - ответил я. - Даже быстрее, чем
надеетесь.
- Это мы, как говорят, еще поживем-увидим, - сказал Игнась.
- Ну так что, - предложил я, - присядем да поговорим.
- Тянешь? - спросил Гончаренок. - Выторговываешь пару минут? Не
поможет.
- Нет, не тяну. Просто постараемся утолить ваше и мое любопытство.
Взаимно. Ведь интересно ж, правда, как работали наши головы?
- Твоя скоро работать не будет, - сказал Гончаренок.
- Брось, - прервал его Высоцкий, - и в самом деле любопытно. А времени
у нас хватит, даже многовато будет. Нужное нам можно легко и перепрятать.
Остальное нехай хоть сгорит.
- А то, что нужно не тебе и не мне?
- Может, и найдется. А может и сгореть, хрен с ним. В самом деле,
давайте присядем да тихо-мирно поговорим.
И он указал мне на высокий валун около стежки.
Сами они сели на два пониже, чтобы иметь большую, чем я, свободу
движений. Ночное судилище нечисти началось.
- Ну вот и поговорим, - хлопнул себя по колену Высоцкий.
Сеймик, как говорится, был небольшой, но bardzo porzadny*. У двух его
участников, помимо превосходства в грубой физической силе (впрочем, может, и
не такого уж большого), в карманах можно было найти ножи (я был уверен в
этом), а у кого-либо, может, и симпатичный маленький кастет, а во внутренних
карманах пиджаков или под мышкой - пистолеты.
______________
* Очень приличный, пристойный (польск.).
- Начинай, - как бы торопя, сказал Гончаренок.
- Начну, - сказал я. - Начну с того, что если даже и не на сто
процентов, но я знаю вашу историю, ваше прошлое. Как узнал? Считайте, что
поначалу это были просто неясные догадки. Я не знаю, каким образом вы
пронюхали о книге и тайне, скрытой в ней. Но вы знали. Возможно, еще со
времен войны, со времен последнего Ольшанского. К сожалению, вы не смогли
присутствовать при финале трагедии и точно не знали, где и что в дополнение
к старым сокровищам спрятал последний князь. Потому что в дело вмешались
гестапо, прятавшее архив, и айнзацкоманда, прятавшая награбленное. И обе эти
"организации" разместили свои тайники в опасной близости к старинным
сокровищам. Им казалось, что более надежного места не найдешь. И они не были
склонны информировать посторонних, да еще местных, открывать им свои тайны.
Наоборот, припрятав от вас ваши же дела, они заставили вас остаться здесь
надежными охранниками своих ценностей и, в случае чего, их защитниками,
потому что вы заодно защищали свой покой и кое-какое будущее... На случай
такой неожиданной неприятности, если бы кто-то начал искать и копать.
Они переглянулись.
- Но хозяева не выжили. Старый Ольшанский в скором времени помер. Книга
исчезла неведомо где. Вы не могли и предположить, что она заброшена на
чердак хаты деда Мультана, где ее нашел Пташинский. Зато у вас была надежда,
что не все потеряно, пока книга неизвестно где, а даже и найденная даст мало
пользы тому, кто ее найдет. Ведь нужно догадаться о существовании
шифрованного сообщения, расшифровать его и... этого мало, иметь в руках
вещественный предмет, без которого, как считал древний князь, да и вы тоже,
расшифровка тайны невозможна. Ни он, ни вы не подумали, что, имея на плечах
хотя бы какое-то подобие головы, можно обойтись без этой вещи.
- Какой вещи? - процедил сквозь зубы Гончаренок.
- Я много над этим думал. Случай помог
- это вторая башня от угловой.
Значит, ошиблись не только мы, но те, кто хотел нас засыпать... Они ничего
не знали, они только следили за нами. А все, что мы...
Я изнемог от смеха, совершенно обессилел:
- Господи! Олух! Олух! Осел ременные уши.
- Ничего, осел на четырех ногах и то спотыкается.
- Ну, хватит. Я больше не позволю этому ослу спотыкаться. Мулом мне
стать, если это будет не так.
С этого момента я твердо решил, что никто, ничто и никогда в ослы меня
не запишет. История когда-нибудь докажет, так это или не так.
Пока мы дошли до места, где нам нужно было расходиться, я поведал
Хилинскому все свои соображения по этому делу. Пускай передает дальше кому
хочет. Я больше не желал рисковать. Мало ли что могло случиться со мной в
этом идиотском уголке?
Он слушал внимательно, а потом, ничего не комментируя, произнес
каким-то безразличным голосом:
- Похоже на то. - И после паузы добавил: - И еще тебе пища для
размышлений: "БТ" никогда, с самого основания ларька, киоскеру не отпускали.
Что мне было до "БТ" и до этого бедняги Пахольчика? Меня удивило
другое.
- Так, значит, поиски идут? Их не оставили?
- А-а, - отмахнулся он, - я ничего не знаю. Щука как-то обмолвился.
...Через день наше тихое пристанище превратилось в столпотворение
вавилонское. Сновали между Ольшанами и Ольшанкой разные машины и разные
люди. Приезжали даже из Кладненского и столичного музеев.
Меня это не касалось. Я сделал свое и, на этот раз, надеялся, что без
ошибки. Я просто делал то же, что и прежде. Вместе с хлопцами, вместе с
археологами (где прибыль, там помощников гибель) выносил мусор и щебень. На
этот раз из второй башни. И все эти дни я, словно предчувствуя недоброе,
пребывал в самом дрянном настроении.
Приходили и уходили местные жители. Иногда на холме люди собирались
даже в маленькие группки, где оживленные, а где и мрачные.
- Ну что, наклевывается что-нибудь? - спросил Ничипор Ольшанский.
Он стоял поодаль вместе с Вечеркой, Высоцким и Гончаренком.
И хотя, отгребя новую порцию разной трухи, на глубине шести стоп от
"материка" мы действительно только что нашли изображенный на камне контур
корабля, я ответил уклончиво:
- А черт его знает. Тут такая головоломка, что нельзя быть уверенному
ни в чем... Возможно... что-то найдется, а скорее всего - нет.
Я не хотел рассыпать почти завершенного узора в калейдоскопе.
До вечера мы расчистили почти всю площадку. Я уже приблизительно видел,
где пол сделай из меньших плит. Там можно было предположить существование
замурованного лаза. Поэтому я специально не позволил ребятам делать раскопку
до конца.
- На сегодня достаточно. Завтра с утра займемся снова.
Они ворчали: азарт есть азарт.
- Ничего, ничего. Оставьте немного приятного ожидания и на завтра.
- Приятного, - с порядочной долей издевки сказала Сташка. - Ничего там
приятного не будет.
Я помрачнел:
- Если я даже прав, то один день ничего уже не даст и ничего не
изменит. Даже если догадки правильные. Потому что люди - мы в этом случае -
опоздали с помощью. На добрых три с половиной столетия.
�ГЛАВА VIII�
Два призрака в лощине нечисти
и дама с черным монахом,
или паршивый белорусский реализм
...Мы умылись в реке, и я пошел проводить Сташку и ее команду до
лагеря. Там уже весело плясало пламя костра и шипел котел с супом, судя по
запаху, куриным, а возле него колдовала худенькая Валя Волот. Все расселись
вокруг костра.
- Что это вы так поздно? - спросила Валя.
- Свинья полудня не знает, - ответил Седун. - Да и не только мы
виноваты. Петух ведь еще не сварился.
Я чувствовал, что Генка снова что-то готовит.
- А все она, - сказал Генка, кивая в сторону девушки. - Не надо было ей
смотреть, как петуха резали. У нее глаз живит.
И вздохнул с фальшивой печалью:
- Так долго мучился петух.
И тут Валя удивила меня. Видимо, Генкины глупости даже у нее в горле
сидели.
- Э-эх, - воскликнула она, - не человек, а засуха. Да еще такая засуха,
что и сорняки в поле сохнут.
- Сам он сорняк, - сказала вдруг Тереза.
- А моя ж ты дорогая, а моя ж ты лапочка брильянтовая. А я ведь на тебе
жениться хотел.
- На которой по счету? - спросила Тереза. - Женись, только не на мне.
- Женись, чтоб дурни не перевелись, - добавила Валя.
Генка притих, понимая, что уже все хотят прижать ему хвост. После еды
он даже вежливо сказал "спасибо", но Волот и после этого осталась
непреклонной.
- Спасибо за обед, что поел дармоед.
- Милосер-рдия! - взмолился Генка.
Девчатам и самим уже не хотелось добивать "дармоеда". На компанию
опустился тихий ангел.
Я не знаю ничего лучше костра. Он пленяет всегда. Но особенно в таком
вот мире, залитом оливково-золотистым светом полной луны. Повсюду мягкая
однотонность, повсюду что-то такое, что влечет неизвестно куда. К в этой
слегка даже серебристой лунной мгле - теплый и живой багряный мазок.
Художники понимают это. Хорошие художники.
- Мне пора, - со вздохом сказал я и поднялся.
- Пожалуй, я провожу вас до края городища.
Прохлада ночного воздуха на лице. Особенно ласкового после жара костра.
Мы шли в этой мгле. Костер отдалялся и превратился уже в пятнышко, в живую
искру. Слегка прогнутой чашей, оливково-серебристой под луной, перед нами
лежало городище, обособленное от остального мира тенью от валов.
- Лунный кратер.
- Станислава, ты не передумала?
- О чем?
- Не раскаиваешься?
- В чем?
- В том, что сказала вчера.
- Нет, - тихо сказала она. - И думаю, что не буду раскаиваться. До
самого конца.
- И я. До самого конца. Все равно, скоро он наступит или нет. Только я
не знаю, чем заслужил такое от бога.
- А этого ничем не заслуживают.
- Ни внешностью, ни молодостью, ни поступками, ни даже великими делами?
- Иногда. Если такое уже и без того возникло. А оно приходит просто
так.
Я взял ее руки в свои. Потом в моих пальцах очутились ее локотки, потом
плечи.
Я прижал ее к груди, и так мы стояли, слегка покачиваясь, будто плыли в
нереальном лунном зареве.
Потом, спустя неисчислимые годы, я отпустил ее, хотя этот мир луны был
свидетелем того, как мне не хотелось этого делать.
- Прощай, - сказал я. - До завтра.
- До завтра.
- Что бы ни случилось?
- Что бы ни случилось с нами в жизни - всегда до завтра.
- Боюсь, - сказал я. - А вдруг что-нибудь непоправимое?
- Все равно - до завтра. Нет ничего такого, чтобы отнять у нас вечное
"завтра".
Ноги сами несли меня по склону. Я способен был взбрыкивать, как
жеребенок после зимней конюшни. Все нутро словно захлебывалось, до краев
переполненное радостью.
Была, впрочем, в этой радости одна холодная и рассудительная жилка
уверенности. Уверенности и знания, которые росли бы и росли, дай я им волю.
Однако я им этой воли не давал, сверх меры переполненный только что
происшедшим и новорожденным чувством безмерного ликования.
И я не давал воли внезапному озарению, которое пришло и не отпускало
меня, став уверенностью и знанием. В этом была моя ошибка.
Но я просто не мог, чтобы в моем новом ощущении единства со всем этим
безграничным, добрым и мудрым миром жили подозрения, ненависть и зло.
Я вступил в небольшую лощину, лучше даже сказать, широкое русло
высохшего ручья. Слева и справа были довольно крутые косогоры, тропинка
вилась по дну и выходила в неширокий проем, за которым, не мигая, висела
большая неподвижная звезда.
Туманно и таинственно стояли в котловине в каком-то никому не ведомом
порядке большие и меньшие валуны. Это было место, в котором старая народная
фантазия охотно поместила бы площадку для совещаний разной вредной языческой
нечисти. Она вымирает, но все равно в такие вот лунные ночи, когда вокруг
светло и только здесь царит полумрак, сюда слетаются на ночное судилище
Водяницы*, Болотные Женщины**, феи-Мятлушки***, Вогники**** с болот,
Карчи*****, Лесовики******, Хохолы******* и Хохлики******** и другие
полузабытые кумиры, божки и боги. Вспоминают, плачут по былому, творят свою
ворожбу, предсказания, суд.
______________
* Водяницы - туманные женщины, рожденные водой и летящие над ней.
** Болотные Женщины - духи болот и вересковых пустошей, красивые жуткой
красотой, но крайне изможденные, пугающие криками одиноких ночных прохожих.
Если вопль особенно ужасен - человек, услыхавший его, умрет.
*** Феи-Мятлушки - маленькие полупрозрачные женщины с крыльями бабочки.
Любят людей, но, полюбив особенно сильно, могут отнять у них душу.
**** Вогники - духи блуждающих болотных огней.
***** Карчи - духи выворотней и бурелома.
****** Лесовики - духи леса. Не мохнатые и, в общем, добрые, хотя и
озорные лешие (лесуны), огромные, иной раз выше леса головой, существа. Они
безразличны к человеку и говорят, не обращая на него внимания, как человек
на какого-нибудь мышонка. Но ведь тот, слыша громовой человеческий голос,
обмирает от страха.
******* Хохолы - нечто неожиданное, что, возникнув в глазах на
привычном, "своем" месте, заставляет человека до глубины души содрогнуться
(вообще-то "хохол" - обмотанный соломой на зиму вместе с ветвями ствол
дерева. Идешь утром - яблоня, идешь в сумерки - и вдруг, как удар по сердцу,
возникает что-то бесформенное, жуткое).
******** Хохлики - домовые. Они духи не только дома, но и двора,
хозяйственных построек, сада. В общем, добры, но своенравны и озорны.
Дыхание трав увядающих тает,
Сочится туман над стальною водой.
В низине, где замок почиет седой,
Последняя фея сейчас умирает.
Эта лощина - последний уголок их когда-то безграничного царства. Эти
еле видные, тускло мерцающие камни - их поверженные троны. Троны в лощине, в
которой густо настоялась их тревога, бездомность и обреченность. Их
последняя безнадежность в мертвой пустоте бездуховности. И единственное
живое - живое ли? - существо в этом мире заброшенности и хмурой Печаля.
Нет, я не был здесь единственным живым существом. Передо мной как раз
на том месте, где тропинка ныряла в узкую расселину, чтобы метров через
десять вырваться на простор, возвышалась очень высокая тень человека.
Эта тень подняла руку и медленно опустила ее. Все это творилось в
полном молчании, которое обещало очень недоброе.
Я оглянулся - еще одна тень блокировала второй выход, тот, через
который я забрел в эту ловушку.
А я ведь все уже понял, я знал и мог предвидеть это. Но я, ослепленный
своим счастьем, смирил, заглушил, удушил свои предчувствия, не дал им воли.
И теперь расплачивался.
- Вы кто? - прикидываясь вполне безмятежным, спросил я.
Он молчал. И вдруг на темном пятне лица возникла тусклая белая подкова
- неизвестный улыбался.
- Впрочем, можете и молчать. Я знаю и так.
Их позы красноречивее всех слов говорили о том, что этому моему знанию
я и обязан этой ночной встречей и что она не может окончиться для меня
добром. Потому что моего молчания о том, что я знал, нельзя было купить, но
его можно было добыть, повстречав вот так на узкой стежке, перекрыв все
пути. Они и повстречали. И это была не первая их попытка добыть молчание
такой ценой.
- Здорово, Гончаренок, - сказал я, покосившись на того, что подходил
сзади. - И ты здорово живешь, Высоцкий. Что, покой очертенел любителю "тихой
жизни"?
- Ну, здорово, - это процедил наконец первые слова Высоцкий. - Доброй
ночи, Космич.
- Вряд ли она будет добрая.
- И здесь ты не ошибаешься, - с ленивым спокойствием сказал он.
- Напрасно вы задумали, хлопцы. Напрасно начали. Мое молчание уже
ничего не стоит. Я нарушил его. И если со мной что-то случится - те люди
сделают свои выводы. И на этот раз они колебаться себе не позволят. Медлить
не будут.
- А нам и не надо. Это не купля молчания, - отозвался Гончаренок. - И
даже не месть. Просто итоги подбиваем. Ты свое дело сделал, привел нас до
тобой же открытого тайника. А уж вскрыть его - тут нам целиком хватит твоего
молчания до утра. Это для нас оно будет - до утра. Для тебя оно будет - на
неопределенное время. Даже если рассчитывать на трубу архангела.
- Для вас она тоже затрубит, - ответил я. - Даже быстрее, чем
надеетесь.
- Это мы, как говорят, еще поживем-увидим, - сказал Игнась.
- Ну так что, - предложил я, - присядем да поговорим.
- Тянешь? - спросил Гончаренок. - Выторговываешь пару минут? Не
поможет.
- Нет, не тяну. Просто постараемся утолить ваше и мое любопытство.
Взаимно. Ведь интересно ж, правда, как работали наши головы?
- Твоя скоро работать не будет, - сказал Гончаренок.
- Брось, - прервал его Высоцкий, - и в самом деле любопытно. А времени
у нас хватит, даже многовато будет. Нужное нам можно легко и перепрятать.
Остальное нехай хоть сгорит.
- А то, что нужно не тебе и не мне?
- Может, и найдется. А может и сгореть, хрен с ним. В самом деле,
давайте присядем да тихо-мирно поговорим.
И он указал мне на высокий валун около стежки.
Сами они сели на два пониже, чтобы иметь большую, чем я, свободу
движений. Ночное судилище нечисти началось.
- Ну вот и поговорим, - хлопнул себя по колену Высоцкий.
Сеймик, как говорится, был небольшой, но bardzo porzadny*. У двух его
участников, помимо превосходства в грубой физической силе (впрочем, может, и
не такого уж большого), в карманах можно было найти ножи (я был уверен в
этом), а у кого-либо, может, и симпатичный маленький кастет, а во внутренних
карманах пиджаков или под мышкой - пистолеты.
______________
* Очень приличный, пристойный (польск.).
- Начинай, - как бы торопя, сказал Гончаренок.
- Начну, - сказал я. - Начну с того, что если даже и не на сто
процентов, но я знаю вашу историю, ваше прошлое. Как узнал? Считайте, что
поначалу это были просто неясные догадки. Я не знаю, каким образом вы
пронюхали о книге и тайне, скрытой в ней. Но вы знали. Возможно, еще со
времен войны, со времен последнего Ольшанского. К сожалению, вы не смогли
присутствовать при финале трагедии и точно не знали, где и что в дополнение
к старым сокровищам спрятал последний князь. Потому что в дело вмешались
гестапо, прятавшее архив, и айнзацкоманда, прятавшая награбленное. И обе эти
"организации" разместили свои тайники в опасной близости к старинным
сокровищам. Им казалось, что более надежного места не найдешь. И они не были
склонны информировать посторонних, да еще местных, открывать им свои тайны.
Наоборот, припрятав от вас ваши же дела, они заставили вас остаться здесь
надежными охранниками своих ценностей и, в случае чего, их защитниками,
потому что вы заодно защищали свой покой и кое-какое будущее... На случай
такой неожиданной неприятности, если бы кто-то начал искать и копать.
Они переглянулись.
- Но хозяева не выжили. Старый Ольшанский в скором времени помер. Книга
исчезла неведомо где. Вы не могли и предположить, что она заброшена на
чердак хаты деда Мультана, где ее нашел Пташинский. Зато у вас была надежда,
что не все потеряно, пока книга неизвестно где, а даже и найденная даст мало
пользы тому, кто ее найдет. Ведь нужно догадаться о существовании
шифрованного сообщения, расшифровать его и... этого мало, иметь в руках
вещественный предмет, без которого, как считал древний князь, да и вы тоже,
расшифровка тайны невозможна. Ни он, ни вы не подумали, что, имея на плечах
хотя бы какое-то подобие головы, можно обойтись без этой вещи.
- Какой вещи? - процедил сквозь зубы Гончаренок.
- Я много над этим думал. Случай помог